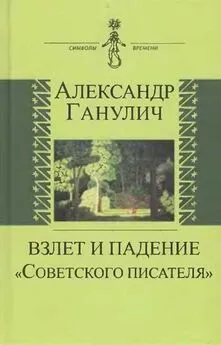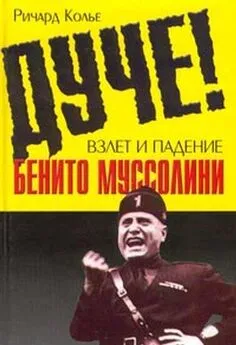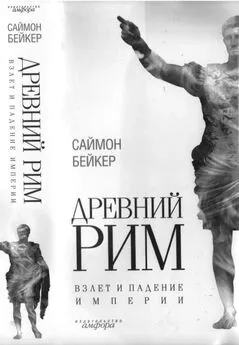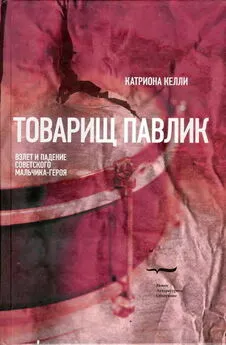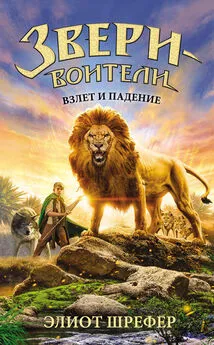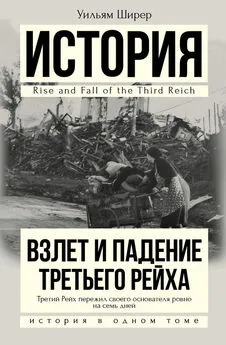Александр Ганулич - Взлет и падение «Советского писателя»
- Название:Взлет и падение «Советского писателя»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0443-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ганулич - Взлет и падение «Советского писателя» краткое содержание
В книге четыре главы посвящены общей истории поселка, которая началась в 1952 году, и двадцать глав — это очерки о его жителях. Обо всех обитателях поселка написать невозможно, поэтому автору пришлось отобрать из них всего двадцать. О тех, кому не посвящены отдельные очерки, можно прочитать в главах, рассказывающих об общей истории поселка, в которой было много юмористического, но хватало и драматизма, а порой и трагизма.
Константин Симонов и Александр Твардовский, Роман Кармен и Михаил Ромм, Зиновий Гердт и Эльдар Рязанов — вот некоторые из героев этой книги.
Взлет и падение «Советского писателя» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После разгрома гитлеровцев под Сталинградом немцы бежали с Северного Кавказа, и весной 1943 года вся театральная труппа вернулась из эвакуации в родной Пятигорск.
Генрих продолжал учебу в школе, но одновременно работал в театре помощником электромонтера и даже иногда выходил на сцену статистом. Там он подружился с молодыми артистами, которые вскоре стали известными во всем Советском Союзе. И дружил с ними долгие годы. Это выдающийся танцор Махмуд Эсамбаев и Михаил Водяной. Они тогда только еще начинали свою замечательную сценическую карьеру.
Школу Генрих окончил в 1947 году с золотой медалью. Пора было выбирать ВУЗ для продолжения образования. Сам он наметил для себя два варианта. Основным был — МГИМО. Генрих хотел стать журналистом-международником. Во время войны он восхищался газетными очерками и репортажами Константина Симонова, публицистикой Ильи Эренбурга, документальными фильмами военных кинооператоров, прежде всего Романа Кармена. Мечтал идти в жизни их путем.
Ну а «запасным» вариантом был ГИТИС. Любовь к театру была с ним всегда.
Сказать, что в Московский Государственный Институт Международных Отношений поступить было сложно, значит не сказать ничего. Даже фронтовики, даже Герои Советского Союза выходили после вступительных экзаменов с бледными лицами. Что же говорить о парнишке из Пятигорска…
Но Боровик был обладателем золотой медали, значит, он мог не сдавать вступительных экзаменов, кроме иностранного языка, и еще требовалось пройти собеседование. Генрих вполне прилично для школьника знал два языка: немецкий, который он изучал в школе, и английский, которым занимался самостоятельно. Первый барьер — языковой — был преодолен успешно. Но дальше — страшное собеседование, о котором ходили необыкновенные слухи. Вопросы там могли задаваться самые неожиданные, например, «сколько колонн у Большого театра?»
Генрих побаивался собеседования. На всякий случай даже пошел и сосчитал колонны у Большого. Оказалось — восемь. Но о колоннах его не спросили.
Беседовал с ним сам ректор института Георгий Павлович Францев. Он спросил, читал ли Боровик книгу Тарле «Наполеон». Генрих ответил утвердительно и даже с облегчением: книгу он прочитал совсем недавно.
— А вы случайно не помните, как начинается это произведение? — с легкой усмешкой поинтересовался ректор.
Боровик процитировал очень близко к тексту. Францев был удовлетворен. Но собеседование на этом не закончилось.
— Чем вы еще интересуетесь в жизни?
— Музыкой. Театром.
— Почему именно театром?
— Родители работают в театре. Отец — дирижер.
— Ну, о музыке я вас спрашивать не буду. Wir sind gute Leute aber schlechte Musikanten. Кстати, что я сказал? Переведите. У вас в документах написано, что вы знаете и немецкий…
— Немного знаю.
— Так что я сказал?
— «Мы хорошие люди, но плохие музыканты».
— Неплохо. А если я вас спрошу, откуда эта фраза? Ответите?
И снова повезло абитуриенту из Пятигорска. Он обожал Чехова. И не было никакого труда вспомнить, что слова эти произносит в «Вишневом саде» гувернантка Шарлотта Ивановна, немка по происхождению.
Францев был не только доволен, но даже и несколько удивлен. Произнес добрые напутственные слова. Так Генрих Боровик был принят в МГИМО.
В 1952 году был покорен и МГИМО: Генриху вручили красный диплом. На практику он попал в редакцию газеты «Комсомольская правда». Его приятель Борис Стрельников работал в международном отделе газеты и предложил отправить заявку в ЦК КПСС на перевод Боровика в штат газеты на постоянную работу. Но тут всплыл дедушка, умерший в лагере, в результате чего штаты газеты оказались заполненными и места для еще одного литсотрудника не нашлось. Зато ему повезло с редакцией журнала «Огонек»: там решили не задавать молодому журналисту лишних вопросов и взяли Генриха техническим секретарем международного отдела. Не слишком заманчивая должность, но, как потом выяснилось, отличный плацдарм для дальнейшего профессионального роста.
Главным редактором журнала тогда был поэт Алексей Сурков, лауреат двух Сталинских премий, который, впрочем, вскоре был избран первым секретарем Союза писателей СССР. Понятно, что непосредственной журналистской работой он не занимался, все дела вел его заместитель Борис Сергеевич Бурков. Бурков был высоко профессиональным журналистом. Всю войну он бессменно работал главным редактором «Комсомолки». Ну а после «Огонька» — главным редактором газеты «Труд», а затем в течение 10 лет председателем правления АПН.
В редакцию «Огонька» по-свойски заходили замечательные писатели: Симонов, Полевой, Михалков, Андроников.
Коллеги очень тепло отнеслись к самому молодому журналисту своего отдела. Потом Боровик говорил, что с местом первой работы ему повезло. «У «Огонька» было несколько преимуществ перед газетами, что я осознал позже. Во-первых, там не было новостей. В нем господствовал очерковый жанр, а это — уже почти литература. Кроме того, официально он не считался органом ЦК КПСС. И ему позволялось не столь казенно, как в газетах, писать, в частности, о международных делах». Генрих стал печататься в журнале. Вначале сочинял расширенные подписи под фотографиями, потом вместе с замечательным мастером фотографии Дмитрием Бальтерманцем сделал несколько интересных фотоочерков. Вскоре Боровик становится литературным сотрудником, а потом и спецкором международного отдела «Огонька». С 1954 года молодого журналиста начали отправлять в международные командировки. Боровик сразу же проявил интерес к «горячим» точкам, видимо, сказалось его восхищение военными корреспондентами и кинооператорами. Оглядываясь назад, Генрих Аверьянович с гордостью говорит, что «горячие точки» стали его «основной специализацией». Его тянуло туда, где было горячо, рискованно, но и безумно интересно. Именно там на его глазах творилась живая история XX века!
Быстро выявилась и вторая особенность таланта молодого журналиста: он писал не о политике, а о людях, попавших в определенные обстоятельства благодаря этой политике. Этим его очерки резко отличались от стандартного журналистского стиля середины 1950-х годов.
На пятилетие КНР он приехал вместе с Бальтерманцем, они первыми показали Китай в жанре фотоочерков. Потом из них получился большой альбом «Сто дней в Китае». На следующий год Генриха отправили во Вьетнам. Страна только начала приходить в себя после кровопролитной, но победоносной войны с Францией.
С той поры Боровик влюбился в эту страну, а его впечатления легли в основу его первой книги очерков «Далеко… далеко…», вышедшей в библиотеке «Огонька» в 1956 году.
Этой поездке предшествовала одна встреча, которая в дальнейшем Боровику очень пригодилась и в творческом, и в жизненном плане. Он познакомился с Романом Лазаревичем Карменом. В Доме кино тот демонстрировал свой последний фильм — о Вьетнамской войне, потом очень интересно рассказывал о своих впечатлениях. Поскольку Генрих должен был и сам ехать в эту страну, он набрался храбрости и подошел к знаменитому фронтовому кинооператору с просьбой об интервью. Роман Лазаревич согласился. Интервью перешло в разговор по душам, выявивший множество точек соприкосновения и даже общность взглядов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: