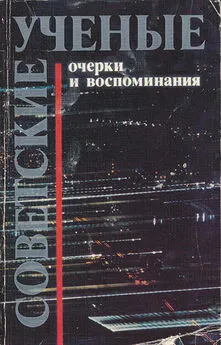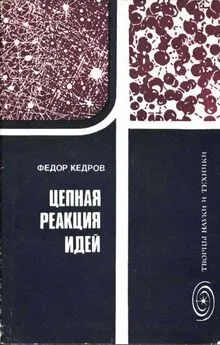Федор Кедров - Советсткие ученые. Очерки и воспоминания
- Название:Советсткие ученые. Очерки и воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство агенства печати Новости
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Кедров - Советсткие ученые. Очерки и воспоминания краткое содержание
Советсткие ученые. Очерки и воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вокруг нас постоянно вились стайки мальчишек. Именно мальчишки первыми обнаружили в пещере огромные кости ископаемых зверей. И они же помогали нам потом добывать все новые и новые образцы ископаемой фауны. Да и кто другой мог бы проникнуть в узкие подземные лазы, в самые потаенные тайны пещер!
Но на этот раз речь шла уже не о костях. К письму была приложена фотография, с которой на меня смотрело узкими, будто слегка прищуренными глазами женское, но вместе с тем и не женское–мужественное лицо. С резко очерченным овалом лица, узким подбородком и каким–то странным локоном с левой стороны головы…
А может быть, и в самом деле эту скульптуру на стене пещеры вырезал «кто–либо из местных художников»? Но тогда что за случай привел в эту глушь художника или скульптора, что заставило его заняться художественным творчеством в темной глубине подземелья?
Даже на фотографии, снятой наспех, ясно выступали черты лица человеческого, очерченные не какой–то случайной, неопытной и неискусной рукой, а подлинным мастером и притом таким, который следовал за конкретной антропологической моделью. Широкие массивные скулы, узкие, слегка скошенные глаза — все это выдавало черты лица «азиатского», как писали мне из Владивостока, лица монголоидного типа. От фотографии, от этого небольшого желтоватого листка бумаги, исходило вместе с тем какое–то неуловимое, но от этого еще более волнующее ощущение глубокой древности и архаизма.
Сколько раз вот так же смутно, но глубоко, какими–то подсознательными путями подсказывала мне верное решение старая охотничья интуиция. И на этот раз прежнее волнение снова готово было повести меня, как гончую собаку по снегу.
Позже я узнал, что лет тридцать–сорок назад на реке Пейшуле, притоке Майхэ, возможно в той же самой пещере или в соседних с ней, побывал исследователь природы Приморского края профессор Алексей Иванович Куренцов. Но он не отметил и не увидел в пейшулинских пещерах ничего похожего на эту удивительную скульптуру. Однако сколько раз опытнейшие археологи–специалисты, которым наука обязана открытием первобытного человека и его удивительных художественных изделий из бивня мамонта, искали только в земле. Они копали дно пещеры и не видели рисунков на ее стенах. Нужно же было маленькой испанской девочке поднять голову к потолку Альтамиры, чтобы увидеть на нем выступавшую из вечной тьмы и полумрака массу быков, корчившихся в странных и невероятных позах. И разве не изучали, не описывали ученые еще двести лет назад колоссальные залы и переходы знаменитой Каповой пещеры на Урале? Но только истинному энтузиасту зоологу А. В. Рюмину удалось совершить одно из величайших археологических открытий нашего времени. Найдя чудесные настенные росписи с изображениями мамонтов, лошадей и носорогов, он, по существу, заново открыл Капову пещеру.
Одним словом, «Спящая красавица» (так окрестили скульптуру ее первооткрыватели) уже не давала мне покоя. Я все острее ощущал желание войти в темный зал, где под мерный стук капель, падающих со свода пещеры, в бархатной тьме сияла белизной моему воображению таинственная скульптура.
Правда, нашей экспедиции, прежде чем попасть на реку Майхэ, а затем и на Пейшулу, нужно было побывать на раскопках в просторной Агинской степи, поработать в глухой тайге верхнего Приамурья, в долине реки Зеи — на речке Громатухе. Оттуда наш путь лежал вверх по Амуру. Затем к Владивостоку. И только после этого, когда уже кругом дышала прохладой золотая приморская осень, наш грузовик мчался по превосходной шоссейной дороге вверх по Майхэ.
Пещера открылась, как это часто бывает, внезапно, нешироким, но довольно уютным жерлом, обращенным к долине. При входе в нее можно было стоять слегка согнувшись, дальше свод круто поднимался вверх и там открывался просторный зал с куполовидным потолком. У входа я еще раз испытал чувство, какое пережил много лет назад, когда увидел прохладную высокую нишу Тешикташа, где был найден неандертальский мальчик…
Первый зал оказался просто великолепно приспособленным для жизни в нем древнего человека. Он был просторен, с высоким потолком и сравнительно ровным полом, который полого поднимался в глубь пещеры. У входа еще виден был солнечный свет. Дальше же пещерные сумерки постепенно густели, пока, наконец, мы не вступили в царство вечной ночи.
Нас окружало фантастическое богатство, что на сухом точном языке геологов зовут натечными образованиями. Правда, здесь не висели с потолка сверкающие сосульки сталактитов, не было высоких белокаменных колонн. Но не надо было большого усилия фантазии, чтобы увидеть на стенах готовые, «отприродные» скульптуры, созданные случаем, без участия человеческой руки. Из шершавой холодной стены грота выступало массивное туловище зверя с крутым горбом. У него можно было увидеть даже длинный, свисающий вниз хобот. Вдруг я увидел обезьяну, а рядом слона…
Вот так, с крутым горбом и гибким хоботом, рисовал в своих пещерах — в той же Каповой пещере на Урале — палеолитический человек своих современников, мохнатых мамонтов. Здесь же освещенные неверным, колеблющимся светом свечи эти странные образы, созданные случаем и нашим воображением, как будто бы двигались, подобно живым: не так ли оживали недра перед глазами нашего далекого предка! И не в этой ли свободной игре ассоциаций лежат истоки художественного творчества?
Сколько мы знаем примеров, когда готовые естественные формы сталагмитовых образований подсказывали палеолитическому художнику образ зверя и ему оставалось только подчеркнуть контур фигуры, одним–двумя мазками краски оттенить самое главное, существенное. Так родились, например, и первые бизоны гигантского плафона в Альтамире. На глазах изумленного зрителя они вырастают из неровного бугристого потолка пещеры, будто порожденные самой стихией матери–земли.
Не такая ли «игра природы» сама «Спящая красавица»? Мой постоянный спутник и помощник, кандидат исторических наук А. П. Деревянко [45] Ныне член–корреспондент Академии наук СССР.
как всегда, был настроен недоверчиво. Но вот перед нами на отвесной стене грота из мрака выступило лицо. Нечто совершенно неожиданное, своеобразное! Это было то, о чем фотография могла дать только приблизительное и упрощенное представление. С первого взгляда скульптура производила впечатление женской головы. Изящество этого лица, при внимательном рассмотрении, заключалось в тонких линиях резьбы, которыми неведомый скульптор оконтурил глаза и рот. Столь же нежно был оформлен подбородок, узкий и тонкий. Но стоило взглянуть на нее не анфас, а сбоку или в другом ракурсе — сверху, и скульптура мгновенно меняла облик. В ней выступало нечто новое: суровое и жестокое. Властные сухие губы, замкнутые печатью вечного безмолвия. Слегка прищуренные глаза, от которых исходило впечатление жестокости и сосредоточенной внутренней силы. Голова покоилась на длинном сталагмите–естественной шее скульптуры. К нему не притронулся резец скульптора: попросту это было не нужно.
Интервал:
Закладка: