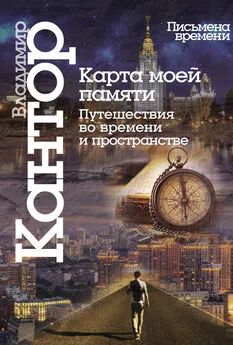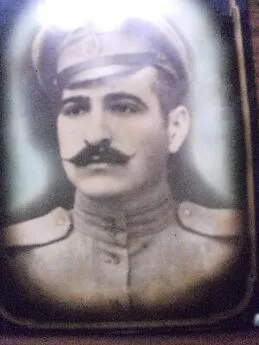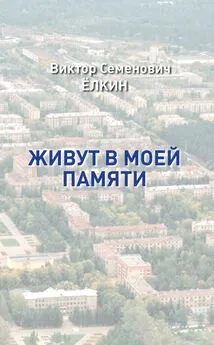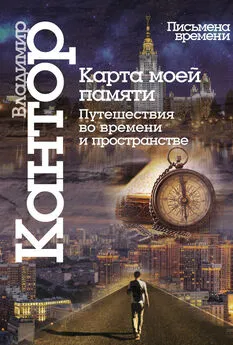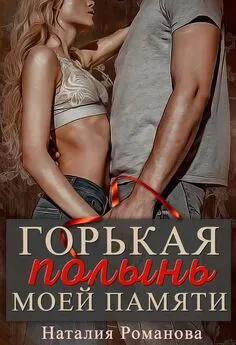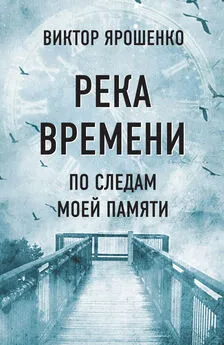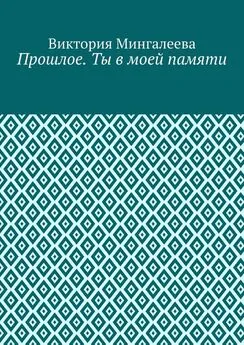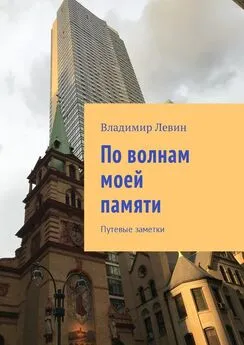Владимир Кантор - Карта моей памяти
- Название:Карта моей памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2016
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-599-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кантор - Карта моей памяти краткое содержание
Большая часть текстов публиковалась в интернет-журнале Гефтер.
Карта моей памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Встречал меня шофер на BMW и доставил в отель, по адресу 1 United Nations Plaza, где в рецепции мне выдали ключ от номера и программу. А милые девушки, с которыми я переписывался, подвели к лифту и объяснили, где можно перекусить.
Отель был одновременно местом пребывания немецкой миссии при ООН.
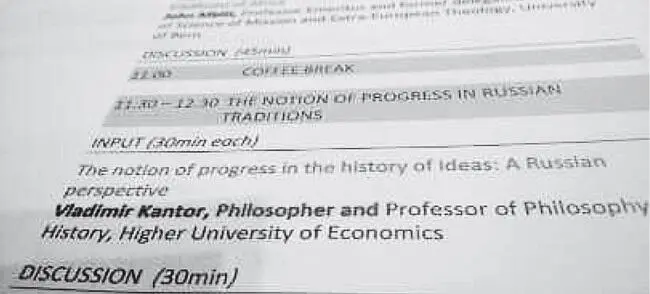
Фотография части программы
Начну со своего фото, все же забавно, как я выглядел в столь важном сообществе. Поразительно, насколько тема конференции совпадала с местом, где она проходила: в гигантском городе, который, хоть и не столица, но воспринимается как центр США, где абсолютный прогресс чувствуется во всем – в массивах домов, в мощи имперского начала державы, стоило посмотреть из окна конференц-зала.

А также в соединении всех народов разного цвета кожи и совершенно разного исторического опыта. Устроители конференции, думаю, очень хотели найти некую равнодействующую разного исторического прошлого и нынешнего бытия. Американцы, немцы, англичане, венгры, мусульмане, индусы, латиноамериканцы, даже человек из России (то есть я). Перед каждым выступающим стояла табличка с его именем.

Надо сказать, что моя персона вызывала некий интерес, все же человек из страны, находящейся под санкциями. Не удержался один молодой человек и в перерыве спросил: «Говорят, что экономика в России в результате санкций сильно упала, даже, как говорят, порвана в клочья, что в Москве пустые магазины и трудности с продуктами. Так ли?» В политику и экономику я лезть не хотел, да и не моя это стихия, поэтому я ответил очень обыденно, стараясь быть предельно вежливым: «Думаю, у вас информация неверная. Магазины полны. Да и посмотрите на меня. Я из вполне среднего по достатку слоя. Похож ли я на изможденного от голода человека?» Он улыбнулся, мол, нет, не похож. А я добавил: «Вот в перестройку магазины и вправду были пусты, зарплату мы практически не получали. Зато я был стройным и спортивным. И куриные окорочка из США, которые у нас назывались „ножки Буша“, весьма помогали. Теперь как-то сами». Кофе-брейк закончился, молодой человек улыбнулся мне, очевидно моим словам не поверив, а я сел на свое место.
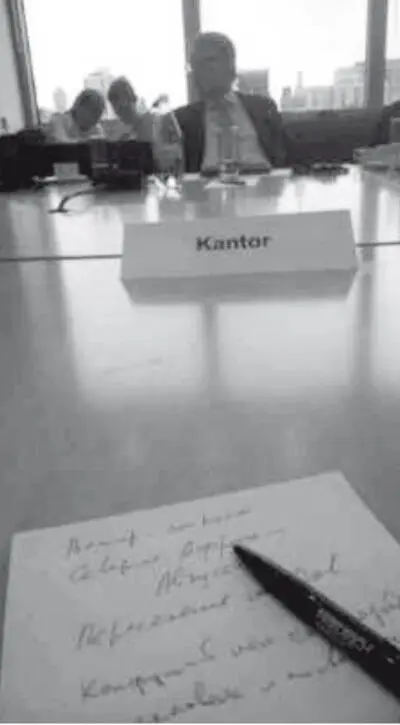
Я сидел рядом с лауреатом Нобелевской премии, замечательным африканским писателем Войе Шойинка и выступал сразу за ним. То, что рассказывал он о том, как прогресс оборачивается на его континенте катастрофой и миллионами смертей, очень напомнили мне эпизоды русской истории. Но американско-европейский истеблишмент слушал его внимательно и, казалось, воспринимал все слова. Впрочем, сама организация (ООН) предполагала толерантность и политкорректность. Проговорив свою речь, африканский писатель поднялся и, вежливо поклонившись присутствующим, извинился, что опаздывает на самолет и должен покинуть конференцию. Индус тоже был резок. Доклад человека из России ( Vladimir Kantor. The notion of progress in the history of ideas: A Russian perspective) был мягче, поскольку не уходил в конкретику. Русских в Нью-Йорке немало: эмигранты, студенты, желающие остаться в Штатах, чиновники от политики, бизнесмены и их семьи, бандиты и фээсбэшники. Я не попадал ни в одну из этих категорий: просто профессор философии из Москвы. Слушали с интересом. Дамы и джентльмены, похлопав после доклада в ладоши, дружно приглашали меня на очередные мероприятия и конференции в других столицах западного мира.
Я предлагаю читателю русский вариант моего доклада.
Хочу начать свой доклад с вопроса, на первый взгляд, парадоксального, но чрезвычайно важного, как увидим, имеющего отношение не только к России, но и к Европе последних ста лет. Вопрос этот должен актуализировать тему моего доклада, перевести его из регистра академического в регистр сегодняшнего дискурса. Вопрос звучит так. Почему последние сто лет идея прогресса из идеи благотворной стала идеей опасной, чреватой войнами и почти непрекращающимся насилием? Я попытаюсь ответить на этот вопрос, опираясь на анализ идеи прогресса в русской мысли и русской истории.
Что такое прогресс? Надо вспомнить, что это понятие явилось, как секуляризация христианской идеи. Отец Сергий Булгаков в начале прошлого века довольно точно фиксировал: «Теория прогресса для современного человечества есть нечто гораздо большее, нежели всякая рядовая научная теория, сколь бы важную роль эта последняя ни играла в науке. Значение теории прогресса состоит в том, что она призвана заменить для современного человека утерянную метафизику и религию, точнее, она является для него и тем и другим» [67]. Она и заменила. Но вместе с тем ушло и стремление к высшему началу, которое в Европе давало только христианство. В России это противостояние между прогрессом, понимаемым как стремление к сытости и счастью, и христианством, предлагавшим движение к высшим духовным ценностям, составило целую эпоху. Христианство полагало целью исторического движения усилие для развития человека и его свободы. Наиболее внятно эту идею высказал протестант Гегель: «Внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения является длительным процессом, который составляет самую историю. <���…> Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, – прогресс, который мы должны познать в его необходимости» [68].
В России многие русские мыслители подхватили именно это прочтение прогресса. Задачу прогресса в России удачно, на мой взгляд, сформулировал Чернышевский, заявивший, что прогресс – это стремление к возведению человека в человеческий сан. А без свободы человек не может быть человеком. Говорил в России подобное не он один. Достоевский писал о необходимости найти человека в человеке. Человек – это не то, что дано, а то, что всегда находится в становлении. Именно в контексте христианской парадигмы мышление принимало свободу человека как основу прогресса, ибо только в христианстве каждый верующий получал шанс на признание своего Я, своего места, где его автономность не ставилась бы под сомнение. Христос ведь говорил: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин, 14—2). В России при полной сервильности духовенства проповедь христианства должна была преодолевать и эту сервильность, выходя напрямую к людям со своим словом. Не случайно со второй половины XIX в. начинается страстная проповедь христианства русскими мыслителями и писателями. Эта проповедь предполагала и обращение к идеалам Просвещения, где выбор своей позиции необходимо означал независимость разума. Пушкин, одним из первых связавший христианство с прогрессом, писал императору Николаю I: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» [69]. Существенно отметить, что эта переписка состоялась после восстания декабристов 1825 г. Ответ императора характерен: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание (курсив мой. – В.К.)» [70]. Это, в сущности, и осталось требованием русских властей навсегда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: