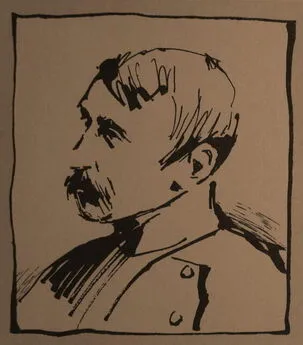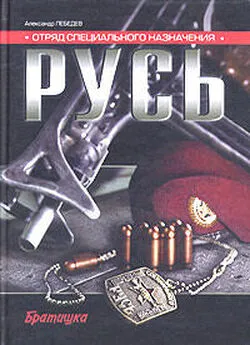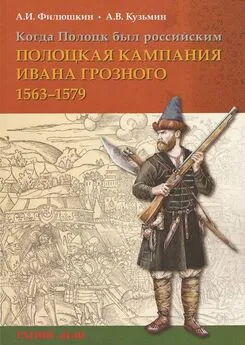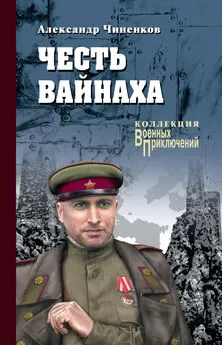Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина
- Название:Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:политиздат
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-250-00645-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина краткое содержание
Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тут, мне кажется, сказано много верного. Но, понятно, при таком ходе умозаключений приходится оперировать весьма усредненными представлениями. Только Пестель, к примеру, выделяется здесь из общей «массы» декабристов, ибо и в условиях следствия он сумел-таки, пусть обращаясь мысленно к потомству, найти себе достойную аудиторию, отвернувшись от своих недостойных противников и гонителей, от своих «недостойных палачей». Конечно, проблема «достойного противника» была весьма существенной для того «кодекса чести», которым в критические минуты определялось поведение людей, скажем так, декабристского круга. Этот вопрос и вообще весьма интересен. Экстремальная ситуация дуэли непременно предполагала некий, как это ни парадоксально, «паритет сторон», дуэль с недостойным противником была невозможна. Но дуэльную ситуацию можно рассматривать и в достаточно широком плане как ситуацию некоего противостояния, противостояния социально-нравственного прежде всего… Дуэль — ритуальное противостояние, но акт дуэли предполагает наличие «аудитории» лишь в каком-то опосредованном смысле. Он предполагает определенный резонанс, ибо секунданты — не зрители, а, скорее, свидетели. В этом смысле и «театральность» поведенческого стиля людей декабристского толка и круга обретает особенный смысл и характер. Это не «игра на зрителя» даже в широком смысле слова, а прежде всего исторически ответственноеповедение людей, наделенных высоким и очень личностным, вошедшим в плоть их и кровь, чувством и сознанием социально-нравственной значимости их жизни, их поступков, каждого их, в конечном счете, шага перед «лицом истории», в определенной социально-исторической и нравственно-психологической перспективе, по существу, бесконечной. Их бытовое поведение не было театрализованным, тут — иное; оно было нравственно-творческим, именно тут сходство с игрой на сцене, с поведением актера перед зрителями. В творческом начале их поведения. И потому они так охотно советуются друг с другом, верно ли звучит их голос, точен ли тот или иной их поведенческий жест и тон, достаточно ли нравственно мотивировано все их поведение, весь их жизненный стиль. Тут апелляция не к «аудитории», не к «зрителям», а к людям своего «круга» — именно к ним. Были, известно, среди декабристов и позеры, «декабристы на час», о них уже говорено. Я в моих рассуждениях тут вижу прежде всего моего героя и егокруг, находя в этомгерое и этом круге нечто очень важное для характеристики всего того явления, которое суммарно именуем мы декабризмом и которое не исчерпывается представлением о Тайном обществе, об организационной принадлежности к заговору, не сводится к рамкам знаменитого «Алфавита» и «Росписи государственным преступникам», а является неформальным явлением в истории русского освободительного движения и еще более неформальным понятием в русской и мировой общественной мысли. Люди декабристского склада, вне всякого сомнения, чувствовали себя исторически значимымилюдьми. Без этого ощущения были бы невозможны, в частности, и те великолепные мемуары, по которым мы даже и теперь в значительной степени судим о том, как же все тогда было на самом деле, пытаемся проникнуть в «тайну» декабризма — не в ту их тайну, которая стала предметом следствия по их «делу», а в ту психологическую, социально-психологическую тайну их поведения на Сенатской, на следствии, на поселении, которая с таким трудом дается до сих пор нашему сознанию. Мы словно все ловим какое-то эхо, которым отозвалась история на декабризм, и чаще всего принимаем это эхо за действительный «факт» истории. И сам декабризм возник словно бы в расчете на это «эхо», он словно знал, что это «эхо» ему гарантировано историей, и сам сверялся с этим эхом, вслушиваясь в него.
Конечно, присутствие чувства нравственного историзма, если я могу так выразить свою мысль, было в высокой степени присуще декабристам и людям, питавшим декабризм своими чувствами и мыслями. Чувство высокой моральной ответственности, присущее декабристам того круга, к которому принадлежал и который столь ярко и порой парадоксально представлял Якушкин, и было, несомненно, выражением глубокого историзма всего их строя мыслей. Они не с детской наивностью или с совсем недетской самоуверенностью готовы были «переодеться» в героев Плутарха и мыслили Монтенем и Руссо, Вольтером и «Дидеротом», они, таким образом, выстраивали некий социально-психологический ряд, в котором искали свое идейно-нравственное место, свою историческую «нишу», которую они были призваны занять, став обязательным звеном в некоей «цепи времен». На поселении не было никакой «аудитории», они знали, что в России их не слышно, что сама память о них изуродована, что даже и нравственный облик их подвергся принудительной дискредитации. А чувство исторической значимости их нравственного состояния, их чисто бытового, казалось бы, поведения их не оставляло. И, как помним, они очень чутко в этом отношении реагировали на любые неточности и шероховатости в своей собственной среде, стараясь сразу же высказать свое мнение и «поправить» ту или иную нравственную неточность. Неточностей и шероховатостей было вдоволь — дело не в этом, а в том, что они тогда же и в той же среде «декабристов после декабря» получали и определенную оценку, и даже известный отпор.
Это Фамусов все оглядывался: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» Чацкого этот вопрос не занимал совершенно. Но совсем не потому, что он оглядывался на то, что «будут говорить» какие-то иные «авторитетные лица». Пушкин был, рискну сказать, не совсем прав, приводя в доказательство своего мнения об известного рода недалекости Чацкого, его мальчишества то обстоятельство, что этот герой «очень умно» говорит перед Фамусовыми и Скалозубами. Чацкий не оглядывался, слушают ли его в доме Фамусова и нравится ли то, что он говорит кому бы то ни было вообще в его окружении — даже Софье Павловне. Он сам слушал себя, он, произнося свои монологи, слушал свое «внутреннее эхо» и с ним сверял тон и точность своих речей. Его даже не смущало то обстоятельство, что окружающие слишком явно не понимают порой, о чем это он там все «гремит», — в известном смысле о нем можно было бы сказать то же, что сам Пушкин сказал о себе, вернее, своем «втором я»: «Ты сам свой высший суд». Вот почему в Чацком так удивительно сочетаются очень большая чуткость и почти полная глухота, прозорливость и почти нелепая неспособность разобраться в действительной ситуации, вот почему он все время ищет и подозревает своего «счастливого соперника» совсем не в тех людях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: