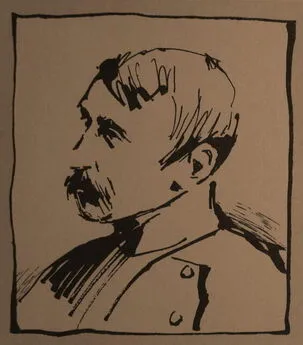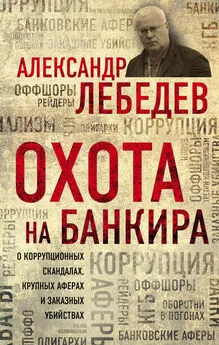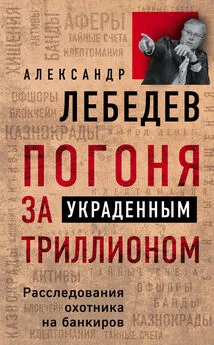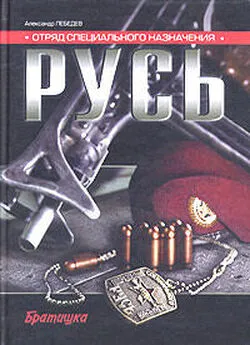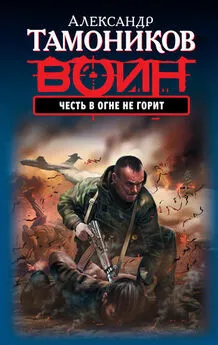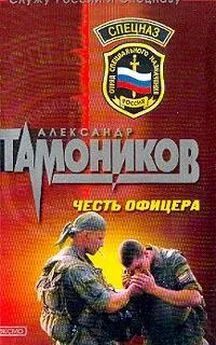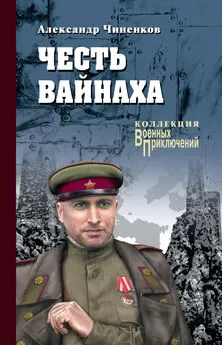Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина
- Название:Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:политиздат
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-250-00645-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина краткое содержание
Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«…Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести… Фонвизин подошел ко мне и просил меня успокоиться, уверяя, что я в лихорадочном состоянии и не должен в таком расположении духа брать на себя обет, который завтра же покажется мне безрассудным. С своей стороны я уверял Фонвизина, что я совершенно спокоен, в доказательство чего предложил ему сыграть в шахматы и обыграл его…»
И. Д. Якушкин. ЗапискиУже и тут много примечательных деталей. Я не говорю о том приеме, которым Якушкин предложил Фонвизину сразу решить вопрос, до какой же все-таки степени он, Якушкин, спокоен. Естественно, Фонвизин со своей стороны не оплошал и тут же, проиграв Якушкину, успокоил того вполне относительно своих подозрений по поводу состояния Якушкина. Характерно и беспокойство Фонвизина, который, как помним, был вполне осведомлен во всех «сердечных тайнах» Якушкина и даже принимал некоторое участие в них. Характерно еще и твердое заявление Фонвизина, что важные политические решения нельзя принимать в «таком состоянии духа», в котором находился тогда Якушкин, то есть нельзя принимать их в состоянии экзальтации, лихорадочного порыва, отчаяния. Это соображение Фонвизина объективно имело не только частный и личный характер, но и выдавало собственную его нравственно-психологическую установку в делах Общества. Но, пожалуй, самое главное здесь для нас не все это, а вопрос о том, когда же это, собственно, Якушкин успел созреть для принятия столь радикального решения; ведь несколько фантастическое известие о некоторых намерениях царя, которое столь взбудоражило действительно декабристов-северян тем, конечно, прежде всего, что вроде бы свидетельствовало о стремлении императора перехватить у них политическую инициативу в решении судеб империи, было получено только что? Откуда возникла эта внутренняя подготовленность Якушкина к самым крайним решениям самыми «крайними» средствами, откуда, иными словами, взялся весь этот взрыв экстремизма у такого человека? Версия следствия известна, она в значительной степени подтверждается свидетельствами иных товарищей Якушкина по Обществу. Но тут, конечно, очень важно внимательно вслушаться в то, что говорит по этому поводу сам Якушкин в своих «Записках», оглядываясь на весь этот инцидент уже в определенной социально-исторической ретроспекции.
«Совещание прекратилось, и я с Фонвизиным уехал домой. Почти целую ночь он не дал мне спать, беспрестанно уговаривая меня отложить безрассудное мое предприятие, и со слезами на глазах говорил мне, что он не может представить без ужаса ту минуту, когда меня выведут на эшафот. Я уверял, что не доставлю такого ужасного для него зрелища. Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих…»
И. Д. Якушкин. Там же…Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
С этими пушкинскими строками имя Якушкина становится нам и известно. Поэт рифмует свое имя с именем Якушкина — имя Якушкина оказывается едва ли не первым из всех декабристских имен, которые мы узнаем в своей жизни. Словосочетание «меланхолический Якушкин» остается в нашем сознании навсегда. Эта оценка тогдашнего состояния духа Якушкина неприметно для нас распространяется в нашем представлении на образ и характер человека вообще. Какой Якушкин? Меланхолический. Якушкин был «меланхоликом». А что это значит сейчас для нас, что это определение говорит нам сейчас? Дело даже не в том, что само слово «меланхолический» в рукописи Пушкина читается лишь предположительно, дело в том, что сейчас лишь до известной степени предположительно можем восстановить тот реальный, конкретный смысл, который это слово имело во времена Пушкина и Якушкина. А слово это было непростым. Оно вообще очень непростое слово. Как бы закрепленное Пушкиным за Якушкиным в роли постоянного эпитета, оно не могло быть случайным. Не только потому, что у Пушкина вообще нет «случайных слов», а потому, что Пушкин ведь зналЯкушкина. И потому мимо этого слова, говоря о Якушкине, пройти вообще нельзя. Но сказано оно было Пушкиным применительно к тому именно Якушкину, каким Якушкин был или, по мнению поэта, должен был быть в момент «злоумышления на цареубийство», в том душевном состоянии, которое так встревожило Фонвизина.
Современная психология понятия «меланхоличность», «меланхолик» связывает с представлением о типе такого темперамента, при котором повышенная чувствительность и душевная ранимость («сензитивность») сочетаются с внешней заторможенностью проявления чувств. А «сензитивность» — это уже прямо, как пишут в соответствующих изданиях, «см. комплекс неполноценности», способ преодоления которого и определяет, как полагают современные психологи, «стиль жизни» данного человека.
Наверное, изложение еще надо было бы перевести на язык той «социально-исторической психологии», которой нет как специальной научной дисциплины, но которая несомненно существует в неопознанном, так сказать, состоянии во всех литературных произведениях «на исторические темы». Но, во всяком случае, уже понятно, что смысл, который вкладывали современники Пушкина в слово «меланхолия», «меланхолический», не вполне совпадает с тем, который вкладываем в это слово мы. Это ясно. И тут надо будет еще нечто прояснить. Но вот — о понятии и термине, которых не знали ни Якушкин, ни его современники, несомненно, зная само явление как таковое. Ведь «комплекс неполноценности» — понятие, которое можно и, видимо, должно толковать и как «отражение» личностью отчужденностиее от окружающего мира, как бы нависающего над ней и давящего ее самим фактом своей непреложности. И тут означенное понятие выявляет всю свою обратимость. А как, в самом деле, будет выглядеть этот самый «комплекс» и связанный с ним «синдром меланхолии» в том случае, когда с точки зрения определенной социально-исторической перспективы не личность, а условия, ее окружающие, оказываются несостоятельны в своих «претензиях»? Не обратится ли в подобном случае означенный «комплекс» в свидетельство «неполноценности» самих условий, окружающих личность и притязающих на некий диктат по отношению к ней и какому бы то ни было ее суверенитету? Кто и что в такой ситуации окажется «неполноценным»? И выражением какой именно реальной ситуации в данном случае окажется «меланхоличность» субъекта? Тут «бабушка еще надвое сказала».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: