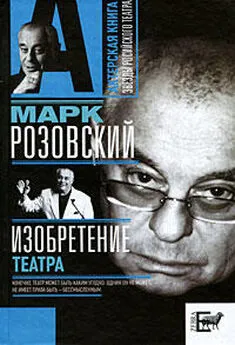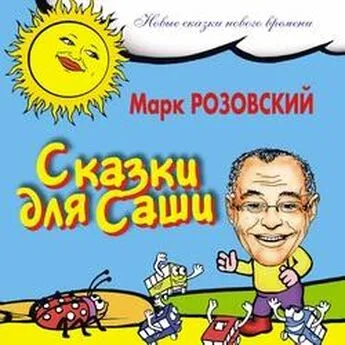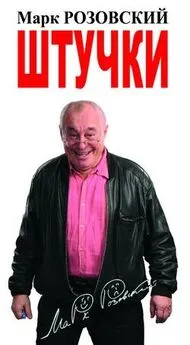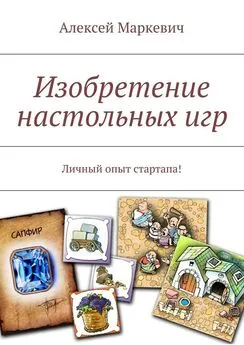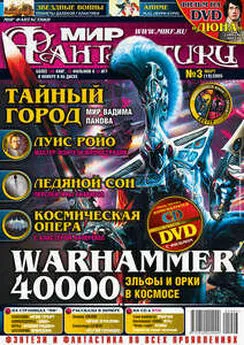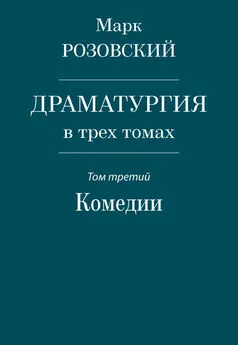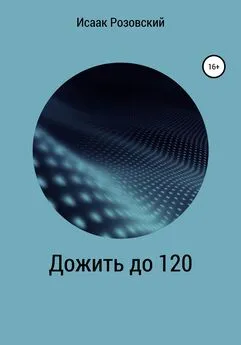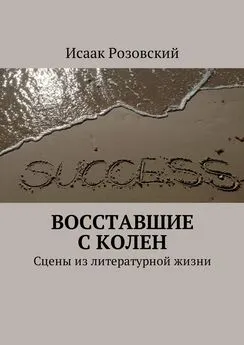Марк Розовский - Изобретение театра
- Название:Изобретение театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-064233-5, 978-5-94663-783-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Розовский - Изобретение театра краткое содержание
Изобретение театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дальше было что-то потрясающее. В сцене с Ведьмой (эта роль сплошь рок-музыка, но исполнительница – пышнотелая негритянка, солистка «Ла Скалы») тридцать шесть студийцев Стреллера создают ему бесовское окружение – пляшут, дергаются, безумствуют, а потом вдруг, собравшись в центе воедино… проваливаются!.. Куда?!. В бездну, в ад, в тартарары – туда, куда надо Гёте и режиссеру. Эта на наших глазах неожиданная гибель живых людей как бы подчеркивает противостояние неба и преисподней. Смерть здесь не что иное, как трагический спуск. Грешники проваливаются в жуть пустоты. И мы почти физически ощущаем эту проклятую стандартизованность неизбежного финала. Игра игрой, но очень уж печальна картина, в которой всем нам, рано или поздно, предстоит поучаствовать.
Когда-то я учился в МГУ и «сдавал» «Фауста» на экзамене. Помнится, мне, дураку, не понравилась ремарка Гёте: «Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем». Мне казалось, что «пудель» – это какой-то иной, снижающий стиль, чужое слово в языке поэзии Гёте. Я хихикал, представляя живого пуделя на сцене. О как же я ошибался, как ничего-то ничегошеньки не понимал тогда!.. Ведь далее шла великая сцена, в которой Мефистофель освобождался из плоти пуделя.
С тех пор я смотрю с опаской на всех пуделей. Вдруг кто-нибудь из них сбросит свою шкуру и явится чертом?!
У Стреллера – фантасмагория, мистерийное, чудодейственное соседствует с конкретно бытовым, явным, взаправдашним. Чара сверхтеатра обволакивает и увлекает. Но рядом – изыск психологизма, изощренно выстроенное логическое действие. Смесь оперно-мюзик-холльной торжественности и технически оснащенной вампуки визуальных суператтракционов с поисками души, метаниями духа.
В дощатом этом балагане
Вы можете, как в мирозданье,
Пройдя вся ярусы подряд,
Сойти с небес сквозь землю в ад.
Ирония глобальных видений и самоценность великого классического слова. Вот он, самый что ни есть современный театр. Вот оно театральное потрясение.
Да, забыл сказать, спектакль Стреллера идет в два вечера. Маргарита появляется на сцене впервые на вторые сутки.
Таким образом Фауст-Стреллер в окружении студийцев омолаживается, так сказать, впрямую, – это поступок Мастера, величие которого возрастает в этом наполовину академичном, наполовину разухабистом представлении.
У Стреллера-актера глуховатый неактерский голос, низкий рост, но великолепная культура жеста, чувственный интеллектуализм исполнения каждой гётевской строки… На всю жизнь запомнится благородная седина на голове этого мудреца-безумца, возвышающаяся над черной мантией – во всем аристократическая театральность, во всем патетизм внешний и сосредоточенность внутренняя.
Ах, друг мой, молодость нужна,
Когда ты падаешь в бою, слабея,
Когда спасти не может седина
И вешаются девочки на шею…
Но руку в струны лиры запустить…
Стреллеровское «погружение в омоложение» дает великий пример живого сотворчества высшего профессионализма с лучезарным школярством, – и в этом тоже смысл «Фауста». Этот спектакль ведет бой с бессодержательностью сегодняшнего театра, с мнимым новаторством ничего не умеющих, но лезущих и всюду пролезающих шарлатанов от искусства.
И еще вот о чем я думал после итальянского «Фауста» – о триединстве Станиславского, Мейерхольда и Таирова в театральном процессе на все времена.
От Станиславского здесь взята сама сущность идеи «Фауста» – «жизнь человеческого духа на сцене».
От Мейерхольда – театральная тотальная театральность, изыск и совершенство формы, свобода Поэта, плывущего над повседневностью в космосе истории.
От Таирова, когда-то возымевшего смелость назвать жанр одного из своих спектаклей «каприччо», – пластика стилизованного астетизма, подчеркнутая графика ирреальности, возвышенная красота, которой, как бы нет, но именно поэтому Театр обязан ее выдумать и представить.
Что бы мы не делали, где бы и когда бы не выступали, это триединство будет освещать любой наш опыт, – и мы должны стараться вывести себя к их великому священнодействию, как это сегодня сделал Джорджо Стреллер.
1989 г.
Итак, спешите видеть!
Человек, пришедший в театр зрителем, уходит из него оплодотворенный новым знанием самого себя и окружающей жизни. Следовательно, задача театра сводится каждый раз к тому, чтобы организовать взаимодействие трех миров, найти те средства и приемы игры, которые были бы удобны в общении. Искусство этой организации и составляет труд режиссера, как главного действующего лица в процессе создания зрелища.
В сущности, люди ходят в театр, чтобы смотреть и слушать. При этом смотрят они, так сказать, постоянно, а слушают с паузами.
Другими словами, зрелище спектакля есть акт в пространстве и времени непрерывный, в то время как звуковая (музыка, голос, шум) сторона отличается дробностью, раздельностью. Что происходит, по выражению К. С. Станиславского, «здесь и сейчас», мы видим на протяжении спектакля в едином текучем отрезке, а то, что слышим, несет лишь иллюзию слитности, на самом же деле состоит из отдельных компонентов (музыка – из нот, фраза – из слов, шум – из звуков). Вот почему режиссер любого спектакля должен помнить о том, что во всем сценическом комплексе визуальный ряд является важнейшим звеном, как бы сопряженным с вечностью. В силу этого он никогда не теряет производственного интереса к работе, связанной с изобразительным решением постановки, которая явным сказочным образом доказывает существование несуществующего.
Разумеется, под изобразительным решением мы подразумеваем отнюдь не только искусство художника-декоратора, но, скажем, и пластику актеров, и мизансцены персонажей, и игру с вещью… Обычно под «зрелищным» понимают нечто обязательно крупномасштабное, сверхмерное. Если, скажем, в спектакле используется массовка – значит, мол, спектакль зрелищный. Если актеров мало и декорация без перемен – спектакль сразу причисляется к рангу «невыразительных» и «неинтересных для глаза». Это ошибка. Спутав внешнюю зрелищную концентрацию с чисто «количественным» визуальным решением, и сам режиссер может впасть в иллюзию псевдотеатра. Такой нехудожественный, формальный подход к делу постановки может привести к искусственной гигантомании во что бы то ни стало, к обязательным пышностям и неоправданной красочности. Сколько мы видели спектаклей, где вместо буйства фантазии зрителю преподносилось эклектичное нагромождение всевозможных театральных компонентов, у которых была одна задача – содействовать общей помпезности постановки. Зрелищем считалось только то, что действовало «своим видом», что внушало уважение и создавало авторитет огромным размахом и мнимой щедростью в решении коллективных сцен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: