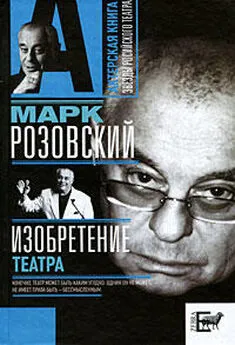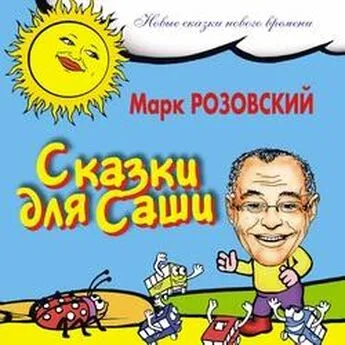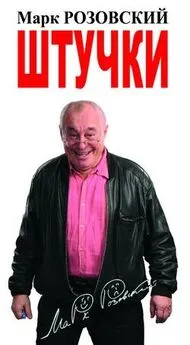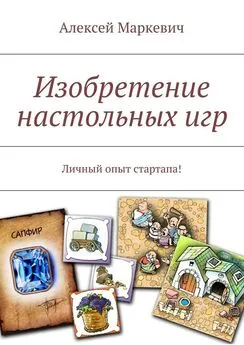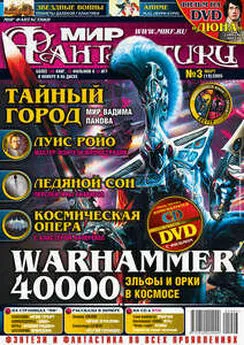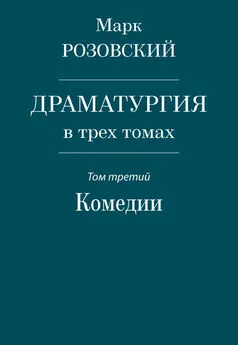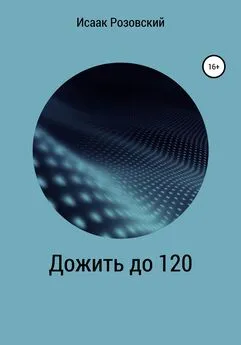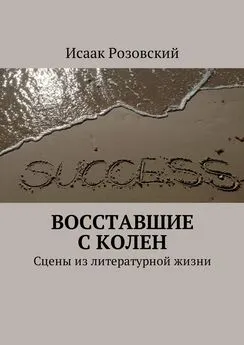Марк Розовский - Изобретение театра
- Название:Изобретение театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-064233-5, 978-5-94663-783-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Розовский - Изобретение театра краткое содержание
Изобретение театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гитара обычно висела на стене, словно картина. Тогда ее не прятали в футляр, а выставляли, хвалясь ею перед вошедшими в дом. Иногда к ней даже приделывали бант – знак праздника, символ вот так понимаемой красоты. Все это изругивалось мещанством, квалифицировалось официозной культурой как признак убожества духа, низменности запросов и интересов. Играющий на гитаре во дворе, да еще и поющий под нее – это всегда некто темный, безусловно опасный, обязательно непредсказуемый, неуправляемый, пьяный.
К гитаре прилагались другие аксессуары. Во-первых, лавочка, во-вторых, челка, в-третьих, хрипатость голоса, в-четвертых, компания слушателей, в-пятых, вечернее время…
«Лавочка» перебегала в «подъезд», «челка» сопровождалась прической «полубокс», «хрипатость» соединялась с нежностью, компания превращалась в банду, вечернее время затягивалось за полночь…
Гитара цементировала жизнь в распаде. Уличная песенка делалась нужнее ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО искусства. Большой театр на дому, МХАТ во дворе… Что может быть простодушнее и выше?.. Звание «народный артист», присваиваемое где-то кому-то за что-то, буквальным своим смыслом более относилось к блатному исполнителю на бульварной лавочке, чем к дяде во фраке, выступающему в консерватории. Вой двора жизненнее и обобщеннее пения с возвышения на паркете. К тому же ТАМ было «разрешено» – а здесь запретно. Там срепетировано – здесь сымпровизировано. Там санкционируемо – здесь свободно.
Улица – это клуб, и не для избранных, а для всех. Талант свой может проявить каждый, кто может. И потому многие стеснялись «лезть» – из тех, кто хочет, но боится провала из-за отсутствия мастерства. А мастерство требовалось и тут, и какое?! Высшее!.. Вспомним умение свистеть одним пальцем… а двумя?., а тремя?.. А дворовая чечетка… А игра в карты с лупцеванием кончика носа… А «расшиши»?..
А когда на гитаре чьи-то пальцы делали нечто виртуозное, исполнитель мгновенно имел то, что не всякая звезда эстрады и сейчас имеет, – поклонение без обожествления, благодарность без фанатизма, восторг без оваций. Простая просьба: «Сбацай еще!» – вот мера здешнего колоссальнейшего успеха, который и не снился профессионалам.
Да они, профессионалы эти, гитару, кстати, и не особенно признавали. Все больше под рояль, под оркестр…
Даже Утесов, который «произошел» из этой же уличной стихии (только город другой – не Москва, а Одесса!), не опускался до прямого воспроизведения блатного фольклора, а если и делал это со сцены, то только стилизуя, преобразуя в чисто эстрадное исполнение. Да, там были почти те же истоки, но желание их использовать и преодолеть ощущалось в эстетизированном под «улицу» джазе, этакая вульгарность романтизировалась в некий «шик»-«блеск»-«красоту», за который зритель этого демократичного мюзик-холла платил деньги. Тут был Мастер, подававший песню как товар на прилавок – в хорошей упаковке. Купи, разверни – увидишь дорогое, но не совсем родное. Это не с моей улицы, а как бы с соседней. Тоже радость, но иного совсем качества. Задушевность и юмор делали Утесова первым номером на послевоенной эстраде, истинно народным певцом, но еще не бардом.
К будущим бардам относится другой влиятельнейший Мастер – прародитель Высоцкого – Вертинский. Этот стоит не во дворе, не на улице Города, а на его площади, где сверкает изысканный Балаган. Начинавший в одеянии Пьеро, он завершает трагикомическую линию своей судьбы в концертном костюме. Его сила в авторстве, в самодовлеющем стилеобразовании каждого шедевра, в подделке нищего под аристократа, иронизма под лукавство, пачканного под божественное. Назвать грязь новой красотой ничего не стоит, важно, чтобы тебе поверили.
И Вертинский в эпоху расстрелов и кровавой исторической мясорубки уводит нас на седьмое небо своей фантазии, в миры безупречно, безукоризненно чистые. Это как бы антиулица, нечто возвышенно-благородное, то есть то, чего в реальности нет и быть не может. Выдуманное оказывается манящим воплощением улицы «от обратного», это вызов голодному быту, война быту, победа над бытом.
А в основе все тот же артистизм, тонкость и грациозность, нарочито выбранные как метод элегантного противоречия грубой и подлой жизни.
Все это Высоцкий несомненно ЗНАЛ – иначе бы он не стал тем, кем мы его помним. Я прямо вижу его, склонившегося над стареньким патефоном, с которого льются закрученные на пластинках голоса Утесова и Вертинского.
Третий Мастер – Петр Лещенко. Его близость к Высоцкому не изучена, но и ее можно с уверенностью предположить. Послевоенная эпоха, на волне которой уже тогда звучала ностальгия по «мирному» счастью бывалых, простоватых людей, чья грубость поэтизировалась в конвейере баллад и жанровых песенок, в живом и волнующем слух фольклорном мелодизме, – эта эпоха немыслима без голоса Лещенко. Я бы назвал его песни поэзией палисада, – в отличие от городской эстрады. Здесь очень сильны кабацкие мотивы, запоминаемость которых планируется восхитительно простыми, доходчивыми «шлягвортами». Тут царство не гитары, а гармошки. И тем не менее очень ощутима корневая система разбойно-кабацкого песнопения. Все, что требовала от человека только что отошедшая безумная война – быть зверем, или – на худой конец – быть беспощадным и героическим солдатом – отступало перед сентиментализмом этого мелоса, перед душераздирающим стилем этого песнопения.
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц…
Вообще кабацко-разбойное авторское «я» тысячу тысяч раз делало обыкновенных воров Поэтами, и нередко поэтами выдающимися. Да и сама полная приключений жизнь хулигана и вора укрупнялась до образа, неожиданно становилась предметом искусства, отождествляясь в культуре с духом свободы. Писать о разбойниках значило входить в их шкуры, жить их биографиями, делать невероятное, отсиживать за это в тюрягах и преломлять в творчестве пережитое. Чем зигзагообразнее цепь событий, тем интереснее характеры и судьбы, тем ошеломительней поэзия. Разбойное тематически трансформировалось в бунт, в доктрину неподчинения, в оду Вольности. Горячая кровь, дикая рьяность, грубость тона…
От поэтики баллад Вийона – к «Шильонскому узнику» Байрона, затем к «байроническому» вольнолюбию поэм Пушкина и разбойному свисту стихотворчества Есенина – вот (кратко!) путь Высоцкого-автора, причинность его литературного взмаха. Высоцкий – это свобода, а свободы нам всегда не хватало. Традиционная для русской культуры тема разрабатывается обычно в двух направлениях: психологическом и историческом.
Мятежная душа поначалу всегда жертва – нищего быта, отторженности от родителей, всего того, что мы теперь называем веселым определением: «у него было трудное детство».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: