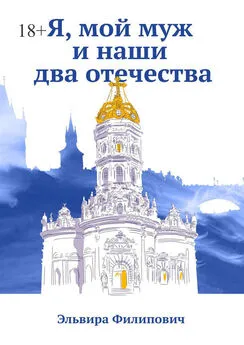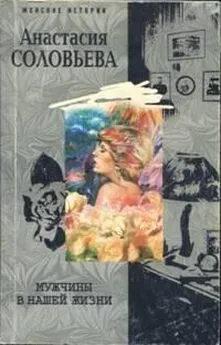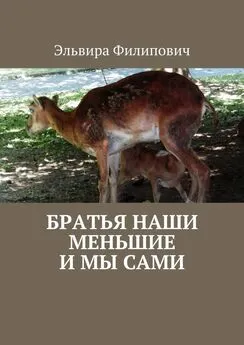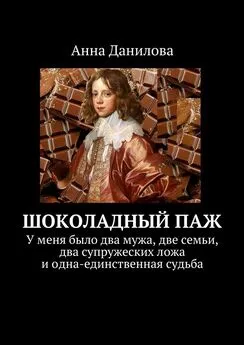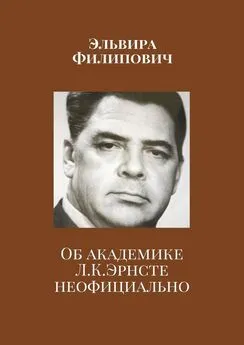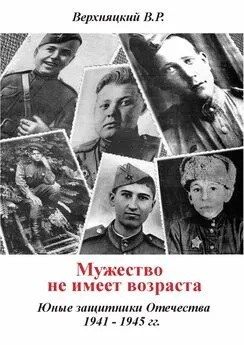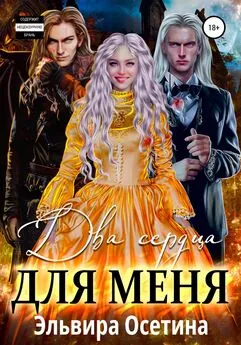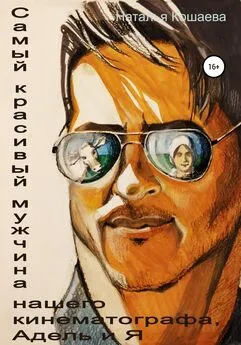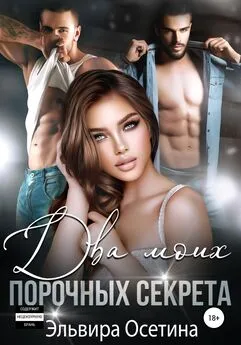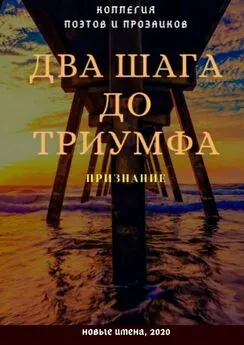Эльвира Филипович - Я, мой муж и наши два отечества
- Название:Я, мой муж и наши два отечества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эльвира Филипович - Я, мой муж и наши два отечества краткое содержание
Я, мой муж и наши два отечества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Горит Волга. Сталинград, 1942 г. (фото из интернета)
А в самой Соколовке стояла напряженная тишина. Военные все ушли на приготовленные позиции, окопались на холмах, с которых еще в прошлую зиму мальчишки и девчонки соколовские лихо съезжали на салазках. А теперь мы, население, отсиживались в погребах, рядом с бочками засоленных огурцов и горкой спелых арбузов или в подполе своей же избы. Деревню ни разу не бомбили, бомбы рвались у самой Волги, а к нам долетали осколки. Сперва мы их собирали: блестящие, причудливой формы, в зазубринах. Потом их в огородах, прилегающих к холмам, сгребали граблями… Доносившийся к нам свистящий вой и треск взрывающихся бомб, шелест падающих осколков — все это стало для нас привычным. Даже младенчики перестали вздрагивать и громко плакать.
Война стала нашим бытом
Война стала нашим бытом. Мы, дети-школьники, в сентябре сорок второго снова пошли в школу. Учиться стало еще интереснее: к нам в школу, в пионерскую комнату приходил пожилой военный и рассказывал, что надо делать при налетах и при артиллерийских обстрелах, чтобы не оглохнуть, не паниковать… А потом учил нас, как пользоваться противогазом, и что делать, когда тебя или твоего товарища засыплет землей. Я, Вася Василичев, Надичка, да и все в школе тогда поняли, что самое главное — не быть трусом, помогать товарищу и верить в нашу победу.
Помню, я уже не чувствовала себя сама собой, а лишь малой частичкой великого целого мы. И, наверное, поэтому совсем не страшно было погибнуть: мывсе равно останемся жить и мы — победим!
«Сур-р-ровый голос раздается!
Клянемся зе-эмлякам:
Поку-уда се-е-эрдце бье-отся,
Поща-ады нет врагам…» —
звенели по деревне наши голоса.
Зимними вечерами мы слышали, как подвывали волки. Как и стада племенного скота с Украины, как зебр и других диких животных из Аскании-Нова, их тоже пригнало войной. Но в отличие от верблюдов и зебр их никто не переправлял на левый берег, и они остались у самого края, на прибрежных холмах. В темноте высвечивали светло-серыми огоньками их глаза. Огоньки то собирались в кучку, то разбегались по всему гребню холмов, у самой Волги…
А на Сталинград из Соколовки все шли и шли военные части. Сначала те, что стояли давно и долго. Тогда свадьбу даже сыграли. Чернокосая шестнадцатилетняя красавица Павлинка замуж вышла.
Потом следовавшие через Соколовку отряды «свежих сил пополнения» задерживались в деревне и ее окрестностях уже не месяцы, а недели, а затем — всего дни, а то и часы перед отправкой на передовую…
Отправили на фронт и всех остававшихся еще в деревне соколовских военнообязанных. Это были восемнадцатилетние и чуть постарше девчата, в том числе старшая дочь наших хозяев Рая, и сам хозяин, немолодой председатель Соколовского сельсовета Александр Васильевич Соколов, а также и все признанные годными для военной службы лошади.
Сталинград победил
Стояли морозы, да еще и с ледовитым степным ветерком, когда всех нас, жителей и военных, находившихся в деревне или рядом с ней, собрали на небольшом выгоне посреди деревни. Летом здесь устраивали театральные представления приезжие артисты или свои же расквартированные по дворам военные. Наверное, играли талантливо: до сих пор помнится, как жилистый повар Гриша, что всегда подкармливал нас, переодетый и загримированный, изображал пышнотелую тетку, которая любовничала с военным дядькой и у которой во время их общего танца отваливалась то одна «сиська», то другая, а то и целая «попа». Были это специально пошитые подушки и подушечки. Повар Гриша их поднимал и с уморительной ухмылкой засовывал обратно. Смеху было… Истерзанные мужичьей работой и постоянной тревогой за ушедших на фронт или прибитые похоронками, женщины все тогда смеялись до слез…
И вот на этом же месте, небольшом пустыре с утоптанным снегом, Петруха торжественно объявил митинг. За ним выступил прибывший с фронта легкораненый майор и произнес: «Мы победили! Фашисты, которых не добили в Сталинграде, все сдались в плен!»
Все кричали ура, а мы, дети, прыгали от радости и от того, что в старенькой обувке сильно мерзли ноги. А через какое-то время нам показывали фильм про Сталинград, и мы увидели немцев не страшными вояками, а жалкими пленными. Ужасно смешно было видеть их в напяленных на себя женских кофтах и зипунах, обмотанных шалями и одеялами, в каких-то неимоверно больших, словно пароходы, тряпками подвязанных к ногам галошах. Женщины, сморенные работой, смотрели на это молча, а мы громко радостно смеялись, ликовали: мы — победители!
А вскоре Соколовка опустела — Красная армия ушла на запад. Ушла с нею и солдатская кухня.
Мои первые трудодни. Голод…
Было без солдатского кулеша со шкварками довольно голодно, однако наступила весна, зеленела молодая крапива, раскрылись напоенные весенней влагой почки ольхи, липы, других деревьев, а на лугу, возле речки, сочными пиками пробился на свет и быстро пошел расти дикий лук, и тут же стали заметны чуть иного оттенка, чем лук, всходы раста, который мы любили особо за его сидящие в земле сладкие луковки… Все это мы, дети, ели. А из крапивы Бабушка варила щи. «Их бы забелить хоть чуточку молоком», — вздыхала она. Но корову Горка заморил: экономил корма. И хозяева наши, тоже и мы, остались без молока… Зато летом я упросила председателя Петруху взять меня на работу в колхозный сад-огород. Меня приняли подсобником. Сначала моим делом было залезать на деревья и собирать груши или яблоки там, где женщины достать не могли. Но потом, когда пошли огурцы с помидорами, моей основной работой было таскать и прятать женщинам их «калым». Это были сумки из мешковины, у каждой своя, которые они наполняли тем, что убирали: луком, огурцами, помидорами… Сумки казались мне ужасно тяжелыми, а носить далеко было — к речке, в самую гущу прибрежного камыша. Когда шли домой, то и в мою сумку клали немного «калыма», и когда я это приносила домой, Горка хвалил и сам подавал мне ложку, чтобы хлебать щи или есть просяную кашу, а потом допытывал, сколько мне проставили за сегодня палочек, то есть трудодней. Сам он тогда уже работал на тракторе и получал по несколько палочек в день. А на каждый трудодень полагалось по килограмму зерна, сколько-то картошки, моркови и других овощей — всего, кроме бахчевых. Арбузы, тыквы каждый себе выращивал сам. Однако год тот был неурожайным, государству надо было сдавать все сполна, иначе трибунал: война… Палочки наши так и остались палочками.
И тогда в деревне начался голод…
Сельским жителям в отличие от городских продовольственный паек не полагался или был весьма мизерным. Считалось, что колхозников полностью обеспечивает колхоз. Но так как война, из амбаров колхозных все повыгребали уполномоченные. Правда, у колхозников, кто похитрее, кое-что оставалось, хотя и очень немного… Ну а нам — нас тоже посчитали сельскими жителями, хотя у нас не было вообще ничего, — нам было положено вспоможение в виде пятидесяти граммов муки на человека, то есть сто граммов на двоих нам с Бабушкой. При этом мука — сметки с отрубями. Правда, хозяйка нас чуточку подкармливала из своего, хотя ее собственный младший сын и мой друг Славка ежился на еле теплой печке и без конца скулил: «Жра-ать хочу, не знаю ка-ак! Ну жрать хочу-у-у…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: