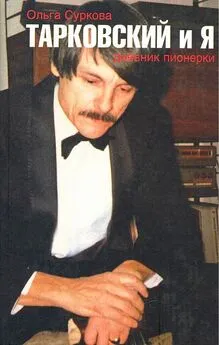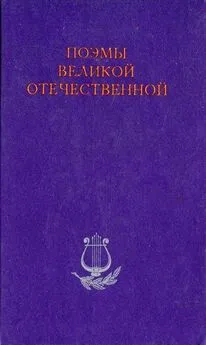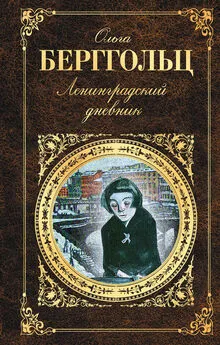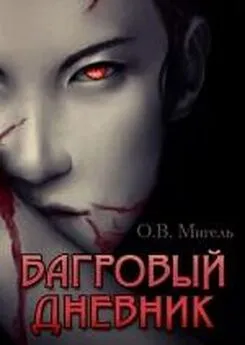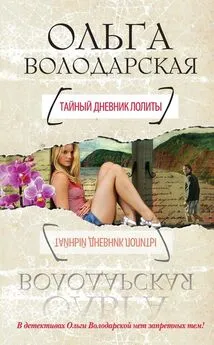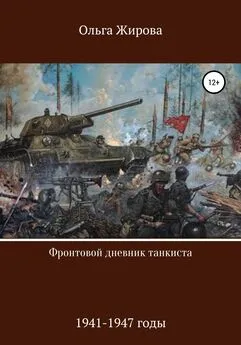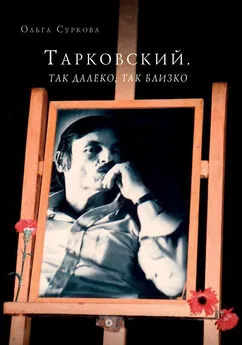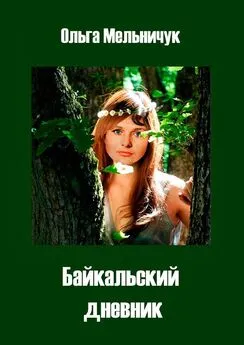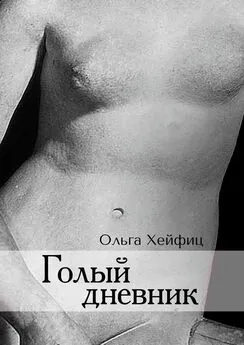Ольга Суркова - Тарковский и я. Дневник пионерки
- Название:Тарковский и я. Дневник пионерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Зебра Е, Деконт+, Эксмо
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-89535-027-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Суркова - Тарковский и я. Дневник пионерки краткое содержание
Суркова была бессменным помощником Андрея Тарковского в написании его единственной книги «Книга сопоставлений», названной ею в последнем издании «Запечатлённое время». Книга «Тарковский и Я» насыщена неизвестными нам событиями и подробностями личной биографии Тарковского, свидетелем и нередко участником которых была Ольга Суркова.
Тарковский и я. Дневник пионерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теперь, когда Андрей, увы, больше уже не возражает мне, я все-таки публикую сохранившиеся у меня заметки о его собственном прошлом. Думаю, что сейчас он не рассердился бы на меня, потому что мне хотелось бы воссоздать его образ таким, каким он мне виделся и определял для меня его творчество. Тем более, что мое намерение находится в полном согласии с его точкой зрения: память и то, что она хранит, определяет личность как таковую. Наконец, в этих его заметках коренится будущее «Зеркало».
Сестра Тарковского Марина выпустила сборник воспоминаний о брате. Он открывается ее собственной статьей, рассказывающей об их родителях и о первых месяцах жизни Андрея, когда он назывался в семье Рыськой и Дрилкой…
А где стрекоза? Улетела.
А где кораблик? Уплыл.
Где река? Утекла???..
Так что попробуем прошлое Тарковского сейчас развернуть вспять и все начать сначала.
«Что значит для меня память, связанная с детскими чувствами? Что значит она для меня? Почему она лучший друг и советчик, когда дело касается творчества? Потому ли, что напряжение связи с ней возбуждает твою волю, жажду творчества? Обязательства перед памятью? Не забыть, запомнить навсегда, закрепить, рассказать о своем детстве? О себе, когда мы были бессмертными и счастливыми? Когда все еще было впереди, все возможно…
…Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звесды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в нем от детских лет,
От непривычки мерять жизнь годами
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как ранние года,
Растительного самоощущенья…
Вот, что писал мой отец Арсений Тарковский».
А вот что писал и вспоминал уже много лет назад сам Андрей Тарковский.
Во время эвакуации, когда мы жили в Юрьевце — зимы были прекрасными. Видимо, оттого, что в этом маленьком городке на Волге не было никаких заводов, способных перепачкать зиму.
В 1942 году, в канун Нового года, там выпало столько снега, что по городу было почти невозможно ходить. По улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на карамыслах ведра, полные пенистого пива. Они с трудом расходились на узких, протоптанных в снегу тропинках и поздравляли друг друга с наступающим праздником. Никакого вина, конечно, в продаже не было, но зато в городе был пивной завод и по праздникам жителям разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве.
Снег был чистый, белый. Он шапками лежал на столбах ворот, заборов, на крышах…
В шестнадцать лет меня поразил «Игрок» Достоевского. Я перечитывал его по нескольку раз. Дело в том, что я был азартным и распущенным. Улица влекла меня своей притягивающей властью, свободой и колоссальными возможностями выбора для применения своих истовых наклонностей.
В школе в то время со страстью предавались игре в «очко» и в «расшибалку» особого рода. Двое становились друг против друга, и каждый клал на асфальт или на каменный подоконник по монете. Следовало ударом другой перевернуть монету своего партнера. Тогда деньги, зажатые у того в кулаке, переходили к выигравшему. Если же монета не переворачивалась, тот пересчитывал их, и неудачник платил проигрыш в размере суммы, спрятанной в кулаке противника.
Мне везло. Я ходил, позвякивая мелочью, оттягивающей карманы, и похрустывал красными тридцатирублевками. Деньги на ведение хозяйства мать держала в ореховой шкатулке, и я иногда незаметно клал в нее часть выиг-раша.
Я считался мастером своего дела, но чемпионом был другой человек, которого всегда можно было увидеть на асфальтовых ступеньках продовольственного магазина на Серпуховке, который назывался «Ильичом У Ильича», «к Ильичу» и так далее… Название это шло из-за расположенного по-соседству завода имени Ильича… Вспоминается еще тридцатилетний человек, высокий и грузный, страдавший частичным параличом. Лицо его было перекошено, руки прижаты к бокам и согнуты в локтях. Ходил он, припадая на одну ногу и подволакивая другую. Яне помню, как его звали. Но он был чемпионом по «расшибалке», и «бился» он, закладывая в огромный кулак чудовищные деньги. По моим представлениям он был богачом.
Несмотря на болезнь, в момент удара монетой, руки его переставали трястись и обретали силу и твердость. Этот человек вызывал во мне удивление, уважение и зависть. Обыграть его было невозможно.
Можно себе представить, как я учился!
«Игрок» меня поразил.
Когда я время от времени перечитываю его сейчас, то, несмотря на многие частности и линии, которые раньше до меня не доходили, я вспоминаю себя шестнадцатилетним, и каждый раз с изумлением констатирую, что глубже, чем тогда, я не способен понять характера Долгорукого. Он был для меня открытой книгой. Мне кажется, что я по-настоящему понимал «Подростка» именно тогда, когда бродил по улицам с карманами, набитыми выигранными деньгами. Мне была понятна и ротшильдовская «идея» Долгорукого и мотивы, которые руководили им и его страстью к игре, к «накопительству» в духе Фрейда, потому что никогда не знал, куда применить выигрыш (отдать матери я боялся из-за возможности быть разоблаченным).
Я обожал книги о кладах и кладоискательствах, самыми любимыми местами их были списки, в которых перечислялись запасы и снаряжения из Жюля Верна, Торо, Дефо… «Пиковая дама» доводила меня почти до исступления. Теперь мне понятна реакция Долгорукого на события, которые он пережил, выразившаяся в смерти его «идеи». Все душевные силы он отдал тем, кого любил, и это был самый высокий вклад его «капитала».
«Подросток» Достоевского — великий роман. Он повествует о становлении характера, стремящегося к любви и только в ней способного раствориться целиком. Это воспаленный, лихорадочный рассказ о мятущейся душе, переполненной любовью и обидой к тем, кто эту любовь отвергает. И он успокаивается, когда находит иной предмет, к которому можно приложить свою страсть. Круг замыкается. Ребенок становится взрослым. Его характер окончательно формируется.
Детством, воспоминаниями о себе, чувствами бессмертия и острой растительной радости художник питается всю свою жизнь. Чем ярче эти воспоминания, тем мощнее творческая потенция.
Поэтому автобиографический жанр, единственный, в котором художник цельно и недвусмысленно приносит жертву у истоков своего таланта. Поэтому-то я должен снять фильм, который будет называться «Белый день» ( «Зеркало» — О. С. ). Фильм о моем детстве, счастливой памяти и о любви, смысл которой можно осознать только сейчас, когда ты, наконец, понял, что и как ты любил и почему. Тогда же любовь была бессмысленна и поэтому радостна и безмятежна. А так как очень хотелось быть счастливым, то научиться этому можно, только вспоминая.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: