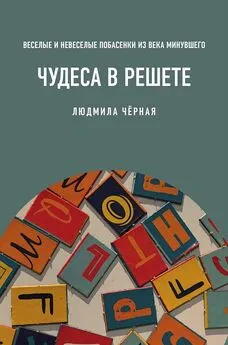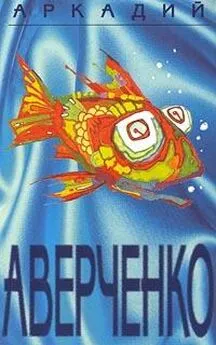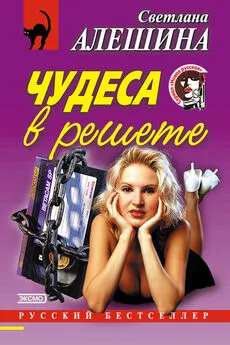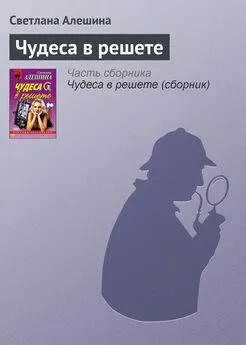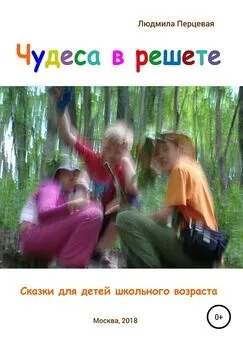Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Название:Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего краткое содержание
«Теперь мне 103. Вышли в свет две мои толстые книги. Пишу третью, хотя не уверена, допишу ли. Когда работаю, рука не дрожит. А когда раз в три месяца помощница Лена привозит меня в Сбербанк и надо расписаться за пенсию, руки начинают дрожать… Чудеса…»
Возможно, разгадка удивительной душевной молодости Людмилы Чёрной — в ее захваченности, очарованности жизнью и в самодисциплине. Высказываемые в книге суждения и оценки порой звучат вызывающе остро — тем интереснее знакомиться с образом мыслей автора и ее восприятием текущих событий. Перед нами не только свидетельство ровесницы «короткого XX века», но и, по выражению Н. С. Лескова, феномен «уходящей натуры».
Людмила Чёрная (р. 1917) работала журналисткой-международницей, переводила художественную литературу (Г. Бёлль, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Ф. Дюрренматт). Вместе с мужем, историком Д. Е. Меламидом, исследовала нацистский режим в Германии и написала книгу о Гитлере «Преступник номер 1». Издала в «НЛО» книгу мемуаров «Косой дождь» (2015) и публицистический сборник «Записки Обыкновенной Говорящей Лошади» (2018).
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Добавлю ко всему прочему, что в интернете подчеркивается грубость и хамство Архипова. И еще там говорится, что за Архиповым тянулся «шлейф сплетен» о его «дон-жуанских похождениях» и «диких предразводных ссорах с женой». Надеюсь, что его супругой в ту пору была не милая барышня, с которой я познакомилась в 1930-е недалеко от ИФЛИ.
Написала о подлеце Архипове, можно сказать, отвела душу.
Но не изложила, пожалуй, главного, что поразило меня в первую секунду в истории с дневником: НИКТО из порядочных интеллигентных ребят-ифлийцев, служивших в армии вместе с Архиповым и с его жертвой, в том числе мой первый муж, никак не отреагировали на безобразный поступок Архипова. Даже не сказали ни слова порицания доносчику — сделали вид, будто ничего не произошло.
Все это сразу же пронеслось у меня в голове — но и я промолчала. Открыла было рот, но потом тут же закрыла.
Ведь то был, как сказано, конец 1941 года — и за спиной у нас всех остались 1937–1939, годы Большого террора. За спиной у нас всех был Сталин и его отлично отлаженная, вездесущая и беспощадная машина сыска и убийств НКВД.
Посему и я, выслушав короткий рассказ мужа об украденном дневнике, не произнесла ни звука. Только, наверное, подумала, хорошо еще, что в условиях военного времени — в Моршанск вот-вот могли войти немцы — ни мужа, ни других ребят, его сослуживцев, не стали вызывать на допросы, не завели дел о «пособничестве врагу».
Молча выслушав мужа, я постаралась забыть эту страшную историю. И наверное, никогда и не вспомнила бы ее, если бы не прожила так долго и не стала бы мысленно прокручивать в памяти прошлое.
Поздний сталинизм, или Дьявольский трагифарс
На этих страницах я попытаюсь рассказать, какими мне представляются восемь лет между концом войны в мае 1945-го и смертью Сталина в марте 1953 года.
Кто я была в то время? Дочь интеллигентных родителей. Начинающая журналистка-международница. Замужняя женщина. Мать маленького ребенка: наш с мужем малыш родился в июле 1945-го. Жили мы вместе с моими мамой и папой фактически в одной перегороженной комнате в огромной, во весь этаж коммуналке.
Все, что я написала далее, основано на моей памяти, хотя я и старалась освежить ее и проверить даты, названия и имена собственные по энциклопедиям, старым записям и интернету (который, увы, часто сильно перевирает прошлое!).
Название «Трагифарс» мне не нравится, однако другого я придумать не смогла. Название «Поздний сталинизм» придумала не я — оно появилось в издательстве «НЛО», где вышла теоретическая работа на эту тему под заголовком «Поздний сталинизм».
Итак, год 1946-й…
Только 2 сентября этого года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, тогда официально закончились и Великая Отечественная, и Вторая мировая война.
Матери и жены еще не успели оплакать своих сыновей и мужей, павших на поле боя. Вся Западная Европа и пол-России — в развалинах. Еще идет Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.
Вот, что творится в мире.
А вот, что происходит в Москве, столице нашей родины:
Карточки. Очереди буквально за всем необходимым. Лимиты на электричество. У многих еще стоят посреди комнаты чугунные печки-буржуйки и труба выведена в окно. На улицах полно калек-инвалидов — людей с подвернутым и заколотым рукавом. Много парней с ампутированной ногой, на костылях. Встречаются и люди, потерявшие обе ноги. Они передвигаются на доске с шарикоподшипниками вместо колес, отталкиваясь от асфальта руками. На крошечных рынках посреди тротуаров несчастные старухи продают сахар кусочками, селедку по полтушки, пшено стаканами. Махорку из мешков — тоже гранеными стаканами. Нищета. Грязь. Все полуподвалы и подвалы заселены приезжими. День-деньской там горит свет…
А что творится во второй столице СССР, в послеблокадном Ленинграде, от нас, москвичей, власти скрывают. Да и очевидцы не хотят ничего рассказывать — боятся. Ведь для этого надо было бы поведать всю правду о блокаде… А ее мы, похоже, никогда не узнаем.
Ясно одно: этот прекрасный город был, как никакой другой в новой истории, разрушен и почти убит…
Но вот уже 14 августа 1946 года выходит знаменитое, не имевшее аналогов постановление ЦК ВКП(б) о запрещении двух ленинградских литературных журналов «Звезда» и «Ленинград» — подчеркиваю, литературных.
За что? За то, что в одном из них был напечатан рассказ для детей Михаила Зощенко «Приключения обезьяны» («Рассказ пошляка и подонка», как писал Жданов, тогда второй человек в государстве Сталина). А в другом — стихи Анны Ахматовой, «представительницы пустой, безыдейной поэзии», «взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной» (Жданов).
А уже 24 августа 1946 года, через две недели, публикуется постановление ЦК ВКП(б) Украины «Об извращениях и ошибках в освещении украинской литературы в „Очерке истории украинской литературы“».
Прошли еще два дня, и 26 августа появилось постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению».
Не знаешь, плакать или смеяться, но получается, что не было у советской власти в 1946 году никаких других забот и тревог, кроме беспокойства по поводу «безыдейных» Зощенко и Ахматовой, а также недостаточно удачной «истории украинской литературы» и «репертуара драматических театров»…
Только не надо полагать, что эти постановления, в том числе о журналах «Звезда» и «Ленинград», и, стало быть, предание анафеме крупнейших и известнейших русских писателей Зощенко и Ахматовой, были случайными.
Наоборот, они были прекрасно обдуманными или, как выражались на тогдашнем партийном сленге, хорошо проработанными.
Да и люди тогда умели читать между строк. И вот что они прочли в постановлении об Ахматовой и Зощенко.
«Не надейтесь, что после войны, после всех ваших жертв, потерь и страданий мы позволим вам горевать из-за ваших бед и обид — вообще грустить и печалиться. Это все побоку.
Не надейтесь также, что мы позволим вам высмеивать дураков, из-за которых вы страдали в военные годы и которых мы опять посадили вам на шею.
Помните, что главное — это идеология, верность Партии, нашему Генералиссимусу, Вождю и Учителю».
И еще: «Не ждите пощады, если будете роптать».
Насчет пощады, хочу особо подчеркнуть: именно из-за этого кампания против Зощенко и Ахматовой велась так жестко, так грубо, так по-хамски. Зощенко и Ахматову сразу лишили продовольственных карточек, изгнали из Союза писателей, который давал возможность людям, не состоявшим на государственной службе, хотя бы не умереть с голоду…
Современному человеку трудно понять, чем были для нас в 1920–1930-е сатирик Михаил Зощенко и поэт Анна Ахматова. Для этого надо осознать, чего у нас не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: