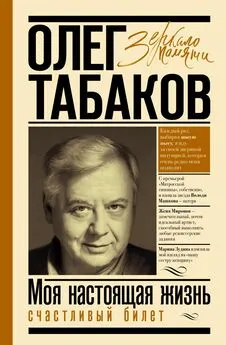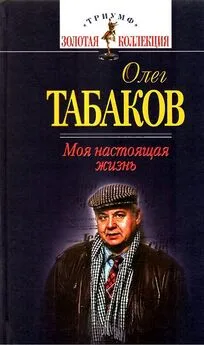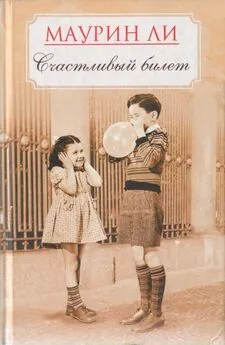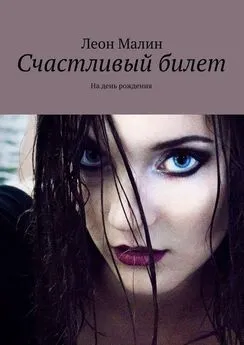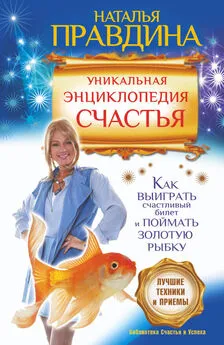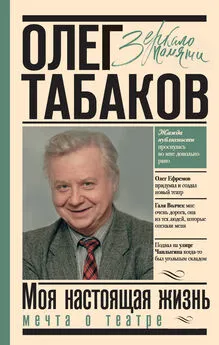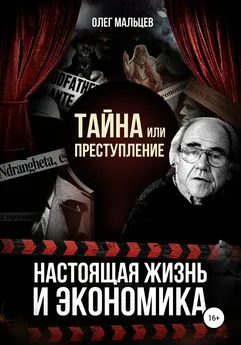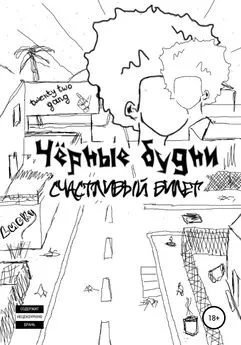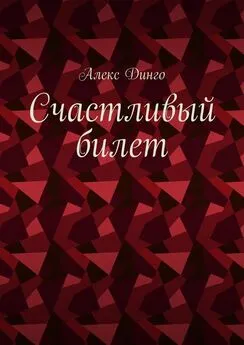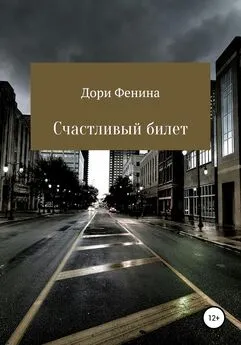Олег Табаков - Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2
- Название:Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- ISBN:978-5-17-132921-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Табаков - Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 краткое содержание
«Счастливый билет» – это рассказ о постановках легендарной «Табакерки», о новой жизни МХТ им. А.П. Чехова, о творческом становлении известных сегодня актеров – В. Машкова, Е. Миронова, С. Безрукова, А. Смолякова, о сотрудничестве с лучшими режиссерами, и еще много о чем.
Искренне делится Олег Павлович и своими горестями и радостями художественного руководителя одновременно двух театров, за спектаклями и гастролями которых читатель с восхищением следит на страницах книги и не перестает удивляться: как один человек успевал играть, преподавать, ставить и управлять. А еще любить – коллег, друзей, и свою дружную семью, которую ему подарила удивительная женщина, красивая и талантливая актриса Марина Зудина.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А дальше нам предстоит, конечно, серьезное укрепление финансово-экономической площадки театра. Потому что зрителей будет в три с половиной раза больше, а стало быть, все увеличится соответственно – и доходы, и траты. Но финансовая прочность будет составлять 1,7, а может быть, даже 1,8 от той, что есть сейчас.
…Когда откроется наше новое здание театра, тем, кто начинал этот путь вместе со мной, – Мише Хомякову, Андрею Смолякову, Наде Лебедевой, будет за пятьдесят. И, конечно, многое будет зависеть от того, что сможет дать театру наша школа, кого она воспитает, возделывая юные дарования. Меня очень заботит, какими людьми они будут и будут ли они привиты этой самой любовью и мечтой о серьезном театре, о театре-семье… Или же они окажутся только профессионалами.
Глава пятая
Кризисный
Трудное наследство
Реальные события не пишутся начерно и уж тем более не корректируются в соответствии с нашими желаниями. В жизни все происходит достаточно стремительно и жестко, что называется без вычислительной техники при всем ее сегодняшнем совершенстве. Так было и в конце мая 2000 года, когда случилась беда. Умер Олег Николаевич Ефремов… Уход дорогих людей всегда, зримо или незримо, меняет твою жизнь, прибавляя ощущения сиротства, жалости к себе и ответственности перед оставленными. Смерть Ефремова, возглавлявшего МХАТ тридцать лет, резко изменила мою жизнь, ибо моей долей наследства оказался Московский Художественный театр.
Самым тяжелым временем не только для Художественного театра «эпохи Ефремова», но и для всей нашей страны оказалось последнее десятилетие миллениума, когда Советский Союз распался и возникло то новообразование, которое сейчас кличут Российской Федерацией. В сознании людей период этот связан прежде всего с экономическим бедствием, приведшим к исключительному наличию на прилавках продуктовых магазинов таких «деликатесов», как рыба ледяная и салат из морской капусты. Сейчас многие вещи из «той жизни» воспринимаются как ирреальная картина… Вспоминая «лихие девяностые», я думаю: «Да какой же жизненной силой наделен русский человек, а главное, какой сопротивляемостью оснащен его желудок, чтобы все это переварить и превозмочь?!» Но тем не менее это состоялось. Видимо, в жанре того же преодоления, которое в свое время очень смешно и удачно Александр Моисеевич Володин называл «вопрекизмом».
Школа-студия МХАТ, руководителем которой я был на протяжении пятнадцати лет, выживала в девяностые годы именно вопреки всему. Театральный вуз не только не пришел в упадок, но сумел остаться на плаву, преодолеть нищенство, ответить на все вызовы истории, судьбы и обстоятельств. Благодаря высокой стене своего маленького монастыря Школе удалось сохранить педагогические кадры. Это оказалось особенно важным в момент разделения театра, когда так или иначе надо было выбирать – «с кем вы, мастера культуры»: со МХАТом Горького или со МХАТом Чехова. Институт пережил трагические уходы из жизни педагогов, которые были, собственно, скелетом этой организации. Герасимов, Богомолов… Я не называю более знаменитых и более остепененных. В это же самое время довольно естественно стали привлекаться к сотрудничеству нужные люди, соответствующие моим представлениям о том, какими должны быть мастера Школы-студии: Алла Покровская, Александр Калягин, Лев Дуров, Евгений Лазарев пришли в то самое время.
Порой импульсом для новой идеи служил, казалось бы, проигранный бой… К примеру, обращаются ко мне однажды корейцы с просьбой их обучить. Я говорю: учеба будет стоить, ну, скажем, полмиллиона. Проходит ничтожно малое время, и сразу два ректора конкурирующих театральных вузов снижают эту цену впятеро и получают корейцев себе. На языке экономистов это называется демпинг, искусственное занижение цены. Нечестная конкуренция. Но не о честности в ту пору велся разговор, а о выживании, и, стало быть, представления о нормах, о профессиональной этике частенько отходили на второй план. И в это же самое время… Я сейчас не очень даже понимаю, как и почему я, с присущим мне трезвым прагматизмом, решился в 1991 году на авантюру с Кембриджем, организовав Летнюю школу Станиславского в Америке, чтобы обучать одаренных граждан США, имеющих средства, «экстрактизированному» актерскому мастерству.
Когда в начале девяностых в работе Художественного театра уже наметился явный спад, Олег Николаевич убеждал меня в необходимости вливания свежей крови в чахнувший мхатовский организм, предлагая взять в труппу театра всю мою ватагу из Подвала. Мы с Ефремовым долго сидели в кафе «Ностальжи», но так ни к чему конкретному и не пришли. А когда я собрал своих артистов на завалинке у служебного входа на Чаплыгина и объявил, что у нас есть шанс помочь Художественному театру, «подставить плечо», они долго молчали, высматривая тараканов под ногами, и только, кажется, Сережа Газаров в конце этой затянувшейся паузы спросил: «А зачем?» Тогда не случилось.
Немногим позднее меня вызвал к себе секретарь ЦК КПСС Иван Тимофеевич Фролов, ведавший вопросами идеологии и успевший поработать главным редактором газеты «Правда». Он предложил: «Давайте подумаем о том, сможете ли вы или кто-либо еще возглавить Художественный театр». На что я, подумав, ответил: «Я знаю такого человека – Лев Абрамович Додин». Но это было тогда, в начале девяностых. Несколько забегая вперед, скажу, что когда после смерти Олега Ефремова в 2000 году тот же самый вопрос мне задал министр культуры Михаил Ефимович Швыдкой, я имя Льва Абрамовича уже не назвал. Но не потому, что талант его со временем как-либо умалился. Просто его работоспособность, его умение выполнять определенный объем работы за определенный период времени, на мой взгляд, стали несколько меньше. И я вообще тогда никого не назвал, потому что не знал того человека, который, по моему мнению, мог бы делать эту работу лучше меня или хотя бы так же, как я. Если бы знал, назвал бы обязательно.
Последние два с половиной – три года жизни Олегу Николаевичу приходилось невероятно трудно и, я бы даже сказал, трагично. Не только в силу своих многих нездоровий, а еще потому, что он сжигал себя с двух концов. Были годы, когда веселье «пития» и курево беспрерывное давали ему какую-то релаксацию и передых в этом его бесконечном вкалывании на пользу театра. В последнее десятилетие его жизни все это привело к роковым последствиям.
Как это всегда бывает в природе, когда заболевает такое, так сказать, «крупное животное», то мелкая вшивота – шакалы и прочие карликовые гиены, а также совсем уж мелкий хищник – кучкуются и так или иначе урывают для себя какие-то пользы из этой ситуации. Кто-то становится опекуном, кто-то завхозяйством… После смерти отца заботиться об Олеге было почти некому. Некоторые женщины брали на себя эти функции, но я не могу сказать, насколько они по-человечески и с пользой помогали ему… Просто не обладаю достаточной информацией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: