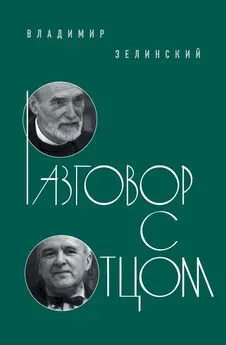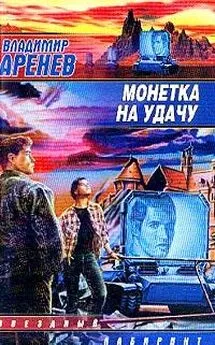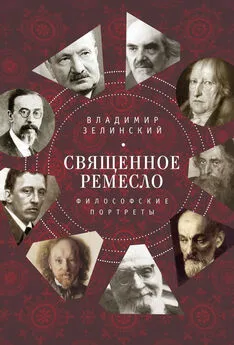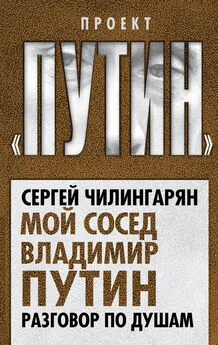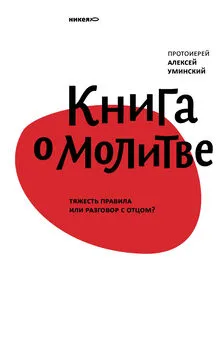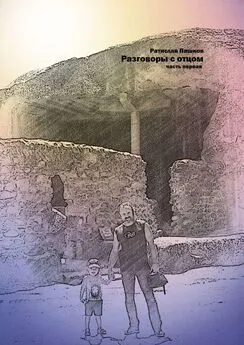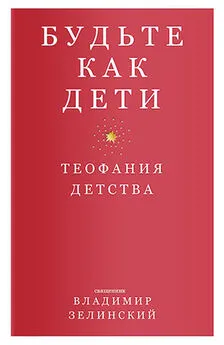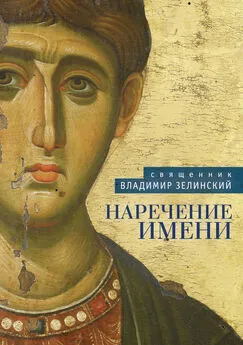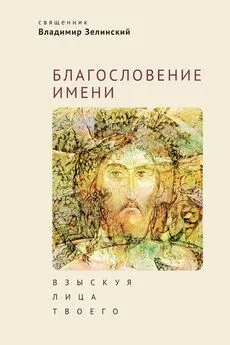Владимир Зелинский - Разговор с отцом
- Название:Разговор с отцом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814970
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зелинский - Разговор с отцом краткое содержание
Разговор с отцом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Все мы юношами, – пишет он в том же письме, — вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако как быстро проходила у многих эта горячка. Но каких безмерных последствий достигают, когда, не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установления порядка, в котором это зло было бы немыслимо, невозникаемо, неповторимо!» Эти два состояния: возвращение к некому энтузиазму юности, желавшему увидеть революцию как победу добра над злом, которым была полна прежняя, старая, затхлая жизнь, и ее воплощение в фигуре власти, олицетворяющей собою режим, давали возможность, освобождали совесть для того, чтобы проходить мимо «всех видов мелкой жалости по отдельным поводам».
«Мелкой жалости по отдельным поводам» – не о гекатомбе ли миллионных человеческих закланий сказано? Но если так были устроены Пастернак, Горький, Маяковский и тысячи других одареннейших и просто одаренных людей, то как мог избежать такого устроения мой отец, который не был ни гигантом, ни гением? Он жил в «широчайшей общности», в которой каждый, кто в нее попал, был обречен на двуязычие-двоемыслие-двоечувствие, при этом сам осознавал эту двойственность и ей покорялся. Метался между личным свидетельством души, разума, зрения, слуха, и горизонтом, целиком заполненным идолами и фикциями, теми славными богами будущего и злыми – прошлого.
Пастернаковское письмо – великолепная «вещь-в-себе», со своей красотой, своей музыкальной темой, при этом никакого отношения к «вещам-для-нас», к смерти секретаря ЦК КПСС И.В. Сталина не имеющая, живущая по своим литературным, эмоциональным, имагинативным законам. Но давайте теперь от этой маленькой художественной вещицы перейдем к другой, громадной, никакой красоты и музыкальности не имеющей, к той идеологии, которая создала СССР и правила им на протяжении более 70 лет. Она «громадна, стозевна, обла и лаяй», топорна, груба, безо всяких каких-либо художественных оттенков. Она, как и письмо Пастернака, жила в своем мире, никакого отношения к реальности не имея. Жизнь, с ее глазами, ушами и страхами, сама по себе, а текст-хозяин, с его газетами, декретами и громкоговорителями, отдельно. При этом они были теснейшим образом сплетены и сплавлены друг с другом, создавая ту комбинацию двоемыслия-двуязычия, а иногда и двоечувствия, которой были причастны практически все граждане страны-утопии.
Сегодня помнят лишь о том, что внешняя покорность хозяину-тексту была условием выживания. Но она не обходилась без покорности глубинной, которой властно требовал инстинкт самосохранения. Сплетение идеологии с реальностью, которая навалилась на нее сверху объективной государственной мощью, нуждалось в союзниках внутри личности, тем более столь творческой. Такими союзниками у Пастернака были: чаемая близость с соседями по земле («Здесь были бабы, слобожане, учащиеся, слесаря…») 60 60 Пастернак Б. На ранних поездах // Пастернак Б. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л., 1990. Т. 2.
, ощущение мощи истории («Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку») 61 61 Пастернак Б . Лейтенант Шмидт // Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л., 1990. Т. 1.
; наконец, весна будущего, наступающего уже сейчас («Весенний день тридцатого апреля с рассвета отдается детворе…») 62 62 Пастернак Б . Поверх барьеров. М., 1931
. Отсюда – «счастье и гордость» и поэтическое приношение «телу в гробу», соседствующее, когда мирно, когда нет, рядом с «душа моя, печальница о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей замученных живьем…» 63 63 Пастернак Б . Когда разгуляется // Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л., 1990. Т. 1.
.
В те же дни Андрей Дмитриевич Сахаров писал жене: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности». Потом вспоминал: «За последнее слово не ручаюсь, но было что-то в этом роде. Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской на щеках. Как объяснить их появление? До конца я сейчас этого не понимаю. Ведь я уже много знал об ужасных преступлениях – арестах безвинных, пытках, голоде, насилии. Конечно, я знал далеко не все и не соединял в одну картину» 64 64 Сахаров А. Воспоминания. М., 1996. Т. 1.
.
А вот спонтанная, отнюдь не безлико официальная («Мы скорбим») реакция патриарха Алексия I, на глазах у которого в 1920–1930-х годах происходил погром, фактически геноцид Русской церкви со многими тысячами ее мучеников: «Упразднилась сила великая, нравственная, общественная, сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет» 65 65 Слово на панихиде по И.В. Сталину 9 марта 1953 года.
.
Ни у кого из них – патр. Алексия, Сахарова, Пастернака – мы и слова не слышим о величии победы, о грандиозном державном строительстве, о могучей стране, полученной с плугом и поднявшейся до атомной бомбы, ни даже о том, «как мы все разделяем народное горе». Не чувствуется здесь казенной, торжественно-ритуальной скорби. Нет, главный мотив у всех совсем другой, можно сказать, личностный: «осушенные слезы и смытые обиды», «человечность», «великая нравственная сила», то есть именно то, в чем сегодня не подозревают Сталина даже самые ревностные душеприказчики его наследства. Но тогда наследство было иным, словно запрятанным в коллективной душе, и почти каждый в те дни захотел его в себе найти, оживить, снова в него поверить. Поразительна здесь исповедальная, лирическая искренность, которая стирает палачество ради поклонения богу мира сего в образе «тела в гробу, причем за спиной у этого малого, человеческого бога вставал, сливаясь с ним, образ обожествленного и слившегося с ним народа.
Это параллельное существование двух вер и очевидностей, находившихся в остром или приглушенном конфликте, это рассечение внутреннего человека на две психологии, когда он, чтобы прожить, тем более в должности писателя, должен был убегать от одного к другому, прятаться за него, прятать себя в нем, но в какой-то момент от него отрекаться, избирать жизнь, а не картинки ее и вновь убегать за эти декорации, надевать маску так, чтобы она больше не отлипала, чтобы срослась с лицом уже окончательно, – такова была судьба творческой личности в России в ХХ столетии. И тончайший поэт, «небожитель», как усмешливо назвал его Сталин, «собеседник рощ», как помянула его Ахматова, едва ли мог быть здесь исключением. Декорации заполняли весь доступный ви2дению горизонт. Правда, даже при тотальном господстве дурмана – а «тело в гробу, с исполненными мысли и впервые отдыхающими руками», было не чем иным, как одним из главных, зримых идеологических предметов, то есть в религиозном смысле фетишем, – даже и при поголовном гипнозе все же оставалась четкая граница между жертвой и преступлением, порядочностью и изменой ей, умом и выпадением из него. Все почти хлебнули сладко-ядовитого зелья, но не все переходили ее; отец перешел, и не раз. В частности, в деле Пастернака.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: