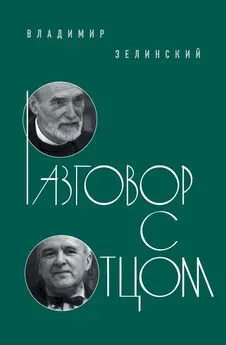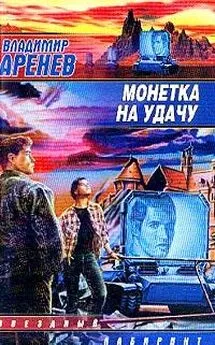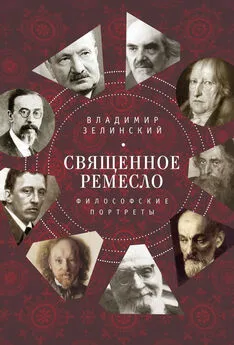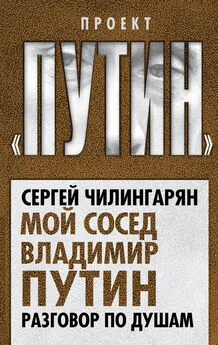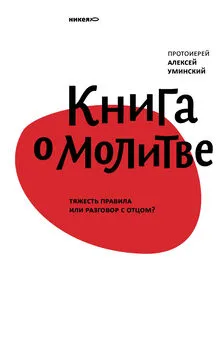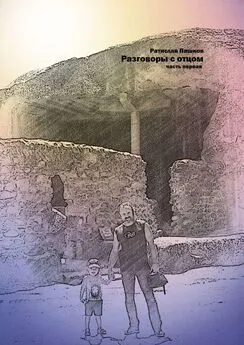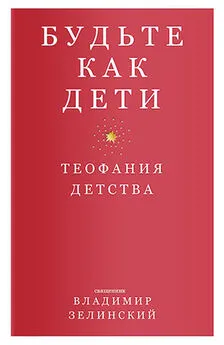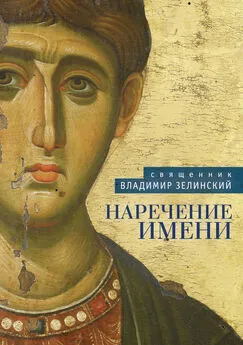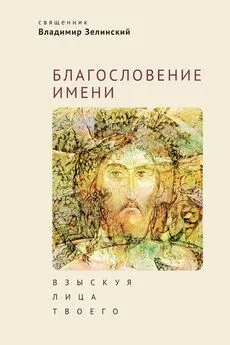Владимир Зелинский - Разговор с отцом
- Название:Разговор с отцом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814970
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зелинский - Разговор с отцом краткое содержание
Разговор с отцом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти люди, со своими разными творческими возможностями и степенью ответственности, по-разному мыслившие и писавшие, отразили собой судьбу и логику времени, не подлежавшего, как говорит Коржавин, обсуждению. Изнутри этой логики и общей судьбы я пытаюсь понять и отца.
ПЕРЕСТРОЙКА
Это отнюдь не новое слово, изобретенное в 1985 году. В советской жизни, стало быть, и в литературе перестройка происходила в сущности всегда. При каждом новом правлении жизнь перестраивалась. Драма России в том, что она всегда надевает маску правящих ею первых лиц. Причем надевает навсегда. Cuius regio eius religio. Чья власть, того и вера, так уж устроено здесь. Мы так любим сводить историю к характерам первых лиц, можно сказать, загипнотизированы ими (скажем, быковское сравнение Сталина, как-то причастного культуре, с варваром Хрущевым, которое что-то нам должно объяснить 66 66 Быков Д. Борис Пастернак.
), но на мой взгляд вся история от Октября и раньше, до роспуска СССР, даже до сего дня есть лишь жизненный цикл некой апокалиптической утопии, словно выброшенной из кратера вулкана, растекшейся повсюду, но потом остывшей, однако бывшей когда-то в состоянии накала и горения. Всякая вера не убеждение в чем-то, но приношение души. Без такого приношения никакая религия, истинная или ложная, не работает.
Покончив с конструктивизмом, родив, вырастив, задушив его собственными руками, отец писал в Предисловии к Критическим письмам , 1934 года издания.
«Я отчетливо вижу трудности перестройки, стоящие перед писателем… – читаем в предисловии к первому сборнику . – Критика должна быть только пролетарской, марксистско-ленинской критикой, а это значит, большевистской, партийной критикой».
«Наши суждения принадлежат не только нам (речь о литературных критиках. – Прим. В.З. ) , но и пролетарскому коллективу, советской общественности в целом» 67 67 Зелинский К . Предисловие ко второму изданию «Критических писем» // Зелинский К. Критические письма. М., 1934..
.
Выйдя из 20-х годов, отец начинал учить язык 30-х, стараясь в нем преуспеть. Язык включения, язык выживания, язык исторической необходимости, жаргон клятвы стальному стилю. Литература становилась исполнением обета верности призраку. Рано ли, поздно ли, его приносили все писатели, а литературные критики, если они не занимались исключительно древностями (впрочем, и в этом случае тоже), приносили первыми. Перестраивался не только Корнелий Зелинский; после шумных, экспериментальных, казалось, во многом свободных 20-х годов, где были крайне левые, не совсем левые, и даже «Серапионовы братья», перестраивались все: Горький с его публицистикой, Леонов начиная с Соти, Эренбург, расставшийся со своим хулио-хуренитством, и даже уже заскучавший в Париже Алексей Толстой. Но перестройка происходила не сразу. Оставалась еще относительная свобода в выборе материала, свобода стиля, по которой вскоре прокатится каток. Свинцовая маска еще не прилипла к лицу. Половина статей Критических писем посвящена зарубежным авторам, пусть и сочувствующим, но все же не до конца вписанным в сталинскую систему. Ромену Роллану перевели статью отца о нем, и он, встретившись, видимо, у Горького, сказал отцу: «Вы пишете как француз, но мыслите как русский». В статье о Роллане Корнелий Зелинский подробно разбирал, что в нем еще мелкобуржуазного, а что тяготеет быть пролетарским, дает ему надежду «вступить в боевые ряды творцов социализма». Но сам его стиль пока еще не до конца вписался в эти ряды.
«Ты пишешь как отец, – не раз говорил мне сын Павел. – Не как француз, но русский, становящийся иногда французом». Так случилось, что четверть моих книг и бо`льшая часть журналистики написана по-французски. Благодаря матери, французский язык вошел в меня сам, освоился, почти не требуя долгих трудов и усердия, повинуясь, возможно, зову наследственности, догадке Ромена Роллана.
Отец перестроился быстро, хотя членом партии и не был. Может быть, когда-то давно, году в 1919-м, о чем никогда не вспоминал. Это было и не столь важно: в монолитное единство переплавившись, не обязательно быть членом его ядра; взявшись за перо, намереваясь что-то напечатать в 30-х годах, ты уже в партии. Исключения из правила (Пришвин, Платонов?) были исчезающе редки. Перечитываю статью Рубаки на Сене о якобы жалкой, несчастной, эмигрантской поэзии, похожей на те «дежурные лирические бутерброды, которые лакей облизывал на рассейских станциях перед приходом поезда» 68 68 Зелинский К . Критические письма. М., 1932.
, что когда-то видел отец. Писать о ней ему совсем неинтересно, у такой поэзии нет будущего, и если критик обратил на нее внимание, то лишь потому, что, когда мы «вступаем во вторую пятилетку, когда мы вытравливаем из социалистической страны последние личинки эксплуататорских классов, кое-кому полезно заглянуть и в душу „призрачных мотыльков“, улетевших за границу» 69 69 Там же.
. Упоминаются имена Георгия Иванова, Оцупа, Ходасевича, Вертинского, Дон Аминадо, Цветаевой.
«Как бедный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве».
Тогда отец привел эти пронзительные строки, чтобы выставить напоказ, как «они (эмигранты) пишут для наших цитат». Кто же стоял тогда на противоположной стороне поэтических баррикад? Безыменский, Жаров, Герасимов, Кириллов, Гастев, имена их были тогда у всех на слуху. Осталось ли от них что-нибудь, кроме строчки в подробных учебниках истории литературы? Кто готов сегодня приобщиться их ликованию на стройке нового мира? Впрочем, не станем пользоваться запрещенным приемом, прибегая к будущему, в котором ныне живем, для суда над прошлым, где нас не было. Будущее, которое казалось счастливым младенцем для Ромена Роллана и многих его современников, стало сегодня стариком-маразматиком, если не давно покойником. «Не гордись, но бойся» (К Рим., 11,20), как говорит мне ап. Павел; просто у твоего времени другие соблазны. Но где найти царский путь, который бы не был ни предательством твоей правды, ни судом над отцом?
В последующие сталинские времена, на которые пришлись самые зрелые творческие годы отца, он самоустранился от литературной жизни, укрывшись за небольшими статьями и рецензиями, за счет которых и выживал. Как-то схорониться тогда можно было, уйдя в незаметность. Гарантии не давало, но оставляло шанс. В те годы никто не воспринимал происходящего с оглядкой не то что на вечность, но даже на историю, которая когда-нибудь может и поменяться. Сталинский режим в литературе не мог меняться, и было трудно представить, что его когда-нибудь не будет. Но после ХХ съезда, когда все стали вдруг удивляться, как они могли боготворить тирана и убийцу, отец признавался, что эту металлическую глыбу на троне он никогда не мог полюбить. Потому что там был не человек вовсе, а как можно было любить что-то холодное, неживое?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: