Алесь Адамович - Врата сокровищницы своей отворяю...
- Название:Врата сокровищницы своей отворяю...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1982
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алесь Адамович - Врата сокровищницы своей отворяю... краткое содержание
Врата сокровищницы своей отворяю... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Снова пишу. Пишу, когда после того минуло много дней».
Пишет, пишет, хотя рядом, вокруг вершится такое:
«Ко мне подполз сине-белый, с мукой в глазах, наш старший телефонист и попросил отвести его на перевязочный пункт. Я бросил писать («К чему теперь писать?»— подумал я) и с большим трудом повел его вдоль реки, не находя переправы. Здесь, в норках под берегом, сидели пехотинцы из нашего батарейного прикрытия; некоторые, словно страусы, попрятали головы в ямки. Один пехотинец помог мне вести старшего, который едва переставлял ноги, он был ранен пулей в спину, между лопатками, и стонал. Когда шли, пехотинец заметил у себя на сапоге кровь, потом захромал от боли, но продолжал вести старшего вместе со мной дальше. Мы уже отдалились от батареи на добрую версту, путешествие показалось бесконечным,— а перевязочного пункта все не было. В стороне от нашей дороги мы увидели госпитальный фургон и направились к нему напрямик, по полю. На наше счастье, фургон остановился. На нем моталось на палке полотнище с красным крестом, и я, наслушавшись разговоров о международных законах войны, с облегчением подумал, что уж тут нас не обстреляют. Но как только мы приблизились сажней на полсотни к фургону, рядом с нами ухнул и со страшным грохотом разорвался «чемодан», подняв гору земли высотой с хату, и охватил все черным смрадным дымом. Зазвенели, завыли осколки. Одна лошадь завалилась и задрыгала ногами, вторая встала на дыбы. Нам следовало тотчас лечь, а мы рвались из последних сил к фургону, как будто в нем было наше спасение. Я увидел, что пехотинца нет с нами: он лежал сзади. Из фургона выскочили санитары, подхватили потерявшего сознание старшего, не обращая внимания на то, что ему больно, и вбросили в фургон. «И тот шевелится!» — крикнул один санитар другому и поспешил к пехотинцу, подхватил его под руки сзади и, отступая спиной к фургону, приволок и его. И его вбросили в фургон. Возчик обрезал ремни на убитой лошади, сел верхом на вторую, задергал, заколотил руками и ногами — и громадный фургон с одной лошадью бешено поскакал прочь от меня по полю. А я, взглянув вслед ему, побежал назад — со всех ног...»
***
Что заставляет человека в этом аду писать-записывать? Всегдашняя вера и живых, и тех, кого через минуту разорвет на куски, что «я все же уцелею, останусь в живых»? Или, может быть, литература вынуждает? Та, что ждет дома — как любимая жена, как родная мать.
Нет, не так она ждет — литература. Ждет сурово и жестоко. С пустой сумой — зачем ты ей? Нужно, чтобы принес что-то: увидев, услышав, ощутив, поняв.
И впоследствии это будет так у Максима Горецкого. Будет писать, будет собирать, в душу и на бумаге, свою жизнь, жизнь близких, односельчан, случайных на его пути людей — неутомимо будет писать, записывать, тогда, когда уже и надежда исчезает, что все это станет художественным произведением. Столько крестьянского в этом, может быть, самом интеллигентном из наших писателей: «Умирать собираешься, а хлеб сей!»
Из этой непосредственности писательского, человеческого чувства и бытия и родилось произведение «На империалистической войне» — настоящая литература. Литература, хотя, кажется, не старается ею быть (быть обязательно повестью, рассказом, иметь то или это, что «должно» обязательно быть в произведении). Забота у молодого вольноопределяющегося батарейца гораздо непосредственнее: записать, что обязан по службе, и что-то, пользуясь свободной минутой, «для себя», для будущего, может быть, произведения, а еще ради самоконтроля» (для чего вообще дневники пищут серьезные авторы). Это делает, вспомним, 21—22-летний юноша. Впоследствии, погодя какое-то время (с 1914 до 1928 гг.) снова и снова будет прикасаться к тем дневниковым записям, рукой уже не батарейца-литератора, а литератора, только литератора. Что-то переделает (возникнет продуманное начало и письмо батарейцев в конце, оформятся и укрупнятся главы с отдельными названиями и т.д.), но неизменным останется главное, а именно оно и делает фронтовые записи Горецкого настоящей литературой: непосредственность и близость, правда всего того, что есть бой, смерть, голод, холод, мучительный страх и стыд за страх, всего того, что есть война.
Вспоминается тут Василь Быков и все то, что возникло в нашей литературе намного позже и возникло как бы заново — из того же истока, но заново.
Из какого это «из того же истока»?
Ну, прежде всего — все это литература пережитого, своими глазами увиденного, на своей солдатской шкуре испытанного.
Да, это так.
Однако это не весь ответ и не все объяснение. Не весь еще «исток».
Можно ощутить и пережить еще и как остро, а рассказывать потом так, как Николай Ростов — о своей первой атаке, гусарской, «героической», конечно же. Ведь не мог молодой гусар взять и сразу признаться, что было совсем-совсем не так, как ожидалось, как обычно рассказывают...
Впрочем, для солдата главное то, как он воюет, а не то, как рассказывает.
Хуже, если такое случается с литературой, с писателем. Скольким, даже из тех, кому хватало фронтовой храбрости, впоследствии недоставало смелости, правдивости литературной.
Однако и здесь есть рубеж, до которого и после которого — разная степень «нравственной вины». Рубеж этот — Лев Толстой, его военная правда, человеческая правда.
Действительно, партизанские, военные записки Дениса Давыдова мы читаем, воспринимаем как «дотолстовские», и тем самым наша требовательность к литературной смелости, правдивости, искренности этого легендарного храбреца 1812 года отнюдь не такая жестокая и бескомпромиссная, как в отношении ко многим произведениям последующим.
А с нашей послевоенной литературой о Великой Отечественной войне — разве не так было, что она через Толстого, возвращаясь к нему, лучше прочувствовала и осуществила свою задачу — стать новым словом о человеке на войне.
Максим Горецкий, вся литература о первой мировой войне, которая отмечена именами Барбюса, Арнольда Цвейга, Олдингтона, Ремарка, Хемингуэя, Лебеденки («Тяжелый дивизион») и других — литература, творцы которой, прежде чем попасть в окопы и на боевые позиции, уже пережили Аустерлиц, Бородино, Севастопольскую оборону...
Потому что уже был Лев Толстой.
Левон Задума Максима Горецкого, попав в армию, на приветствие командира ответил «здравствуйте». Довелось перед специальным столбом, вкопанным посреди двора, учиться «отдавать честь»...
Классический «новичок» — в армии, на войне!
«Пули осыпают наш домик. Ветки на дереве наполовину срезаны. Командир знай крестится после каждой команды. Батарея бьет и бьет беспрестанно. Я боюсь... Вокруг нас перебегают пехотинцы. «На чердак!» — грозно рявкнул на меня командир, и все он крестится. Опять ползу на чердак, как загипнотизированный; смерть так смерть, только бы не мучиться так. О нет! нет! Жить хочу! Господи, помилуй мя, грешного! — и хочется креститься, как командир, но остатки разума зябко шевелятся. А ведь пехотинцам во сто раз хуже...»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





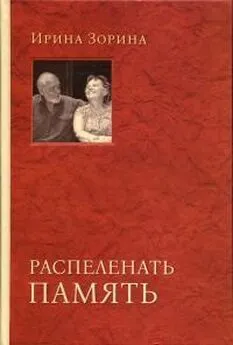
![Алесь Адамович - Каратели [litres]](/books/1078597/ales-adamovich-karateli-litres.webp)



