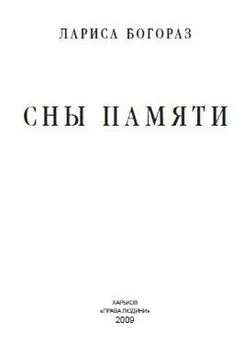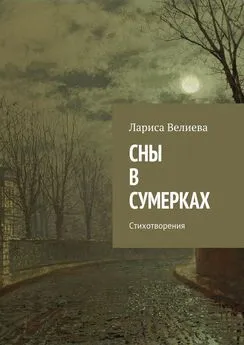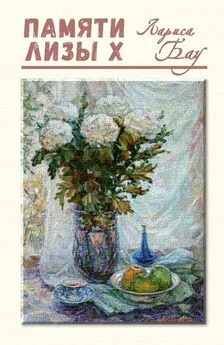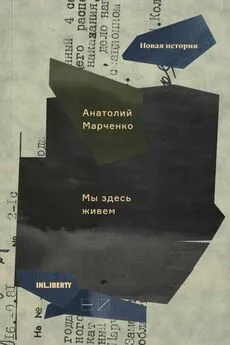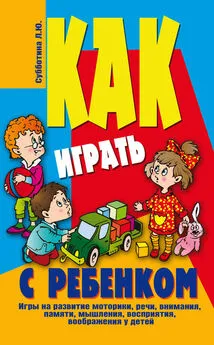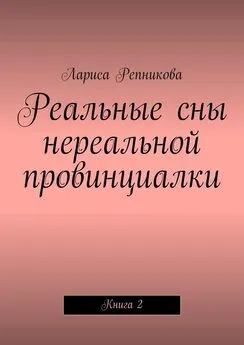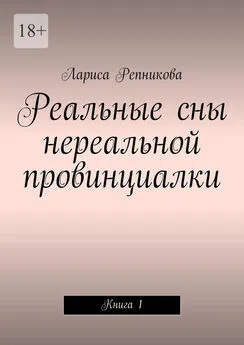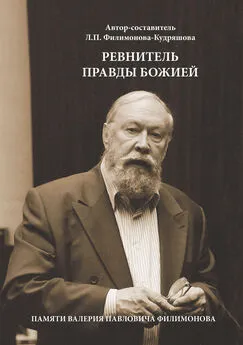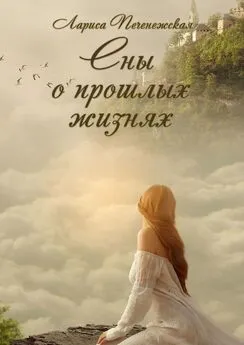Лариса Богораз - Сны памяти
- Название:Сны памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Права людини
- Год:2009
- Город:Киев
- ISBN:978-966-8919-76-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Богораз - Сны памяти краткое содержание
Сны памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я с раннего детства очень любила тетю Этю, она была такая добрая, мягонькая, русоволосая, со светлыми, золотистыми глазами, круглолицая — совсем не такая суровая и мрачная, как моя мама.
Когда они жили еще в Харькове, я всегда бежала к ней, чтобы она меня пожалела в моих детских горестях: избавила бы от обязательных горчичников, уговорила бы маму не стричь меня летом наголо «под нулевку», подарила бы такую маленькую, скрученную из «серебряной» проволоки вилочку, которая придавалась к подарочной коробке мармеладных конфет. Заодно тетя угощала меня и мармеладом, а мама мне сладкое запрещала из-за диатеза.
Тетя Этя читала мне книжки: сказки Пушкина, Чуковского, русские народные сказки. Она сопровождала чтение собственными комментариями. Помню, Чуковский в ее интерпретации оказывался контрреволюционером, вредным писателем: сказка «Крокодил» — злая пародия на революцию: «Радуйтеся, звери, вашему народу я даю свободу!» (а что из этого, по Чуковскому, вышло!); ту же этот вредную идею детский писатель протаскивает и в «Путанице»: «Кому велено чирикать — не мурлыкайте, кому велено мурлыкать — не чирикайте». «Федорино горе» — издевательство над народом, а «Тараканище» — тетя даже боялась говорить, над кем автор издевается: «Поделом кровопийце усатому — чтоб ему подавиться, проклятому!» Тетя была вовсе не глупа, чтобы верить во всю эту белиберду; скорее всего, она старалась вбить ее в мою голову — ради моей же будущей безопасности.
Как тетя комментировала сказки Пушкина и народные сказки, я уж не помню. Но я очень любила, чтобы она мне читала, хотя лет с четырех сама уже хорошо читала. (Первое слово, мною самостоятельно прочитанное, было название газеты «Правда». Как сейчас вижу картину: папа сидит на диване с газетой в руках. Я на полу, у его ног и, подняв голову, вижу прямо над собой большими буквами название газеты. Даже шрифт помню, впрочем, шрифт, наверное, не менялся во все время существования газеты, так что я видела его из года в год, все те же буквы (слегка закругленное «А» с двойной перекладиной) Чуковского же и царей Салтана и Додона я вскоре знала наизусть, запомнив именно с тетиного чтения.
Мама мне, конечно, тоже читала, но много позже, уже после папиного ареста, когда она почти год была без работы. Вот тогда у нее «нашлось время и место» заняться мною. Мама играла со мною в куклы — у меня было много кукол, целлулоидные голышики, белокожие и негритята, одна большая кукла с головкой из папье-маше, и крохотные глиняные, купленные на харьковском базаре; мама шила им всем наряды из лоскутков. В углу моей комнаты у кукол была своя неплохо меблированная комната, одеяла в пододеяльниках с прошвами, подушки с кружевными накидками; на кукольном столике стояла кукольная посуда. Кажется, я и сейчас не прочь поиграть теми своими игрушками.
Мама читала мне и няне прозу Пушкина, рассказы Тургенева. Мы с няней обе заливались слезами, слушая «Муму». Это была первая книга, вызвавшая у меня горючие слезы. Мама читала мне наизусть «революционные» стихи: «Лес рубят. Молодой, вечнозеленый лес…» (не знаю автора) и Брюсова «Каменщик, каменщик, в фартуке белом…»
Пожалуй, пора задать себе трудные вопросы. Я, конечно и раньше знала и нашу семейную мифологию, и историю своей семьи: дядья — следователи НКВД, мама и тети — идеологические работники ВКП(б), еще один дядя — большой начальник в высшей государственной структуре, папа — один из разработчиков и воплотителей экономических идей коммунистической партии. Знать-то я это знала, но это знание как бы заслонялось другим знанием: расстрелы, лагеря, лагеря — Воркута, Колыма, сибирские ссылки, потеря работы. Получается, что все мои родственники старшего поколения — жертвы необоснованных репрессий, жертвы беззакония и террора. Что же я скажу теперь, собрав все семейные истории на нескольких страницах своих мемуаров? Ведь пока я все это писала, у меня буквально мурашки по спине бегали: вот что они натворили в этой несчастной стране, в которой всю жизнь живу я, и жить моим внукам и правнукам! Так, может быть, теперь я должна сказать: все эти расстрелы, тюрьмы и лагеря — справедливая расплата с губителями страны, «поделом вору и мука»?! Нет, таких слов я никогда не скажу и не подумаю так. Разве я Павлик Морозов? Я знаю, что такие же трудные вопросы задают себе теперь многие мои ровесники. Я знаю, как иногда отвечают на них: мол, у наших родителей были чистые и честные намерения, мол, они были бескорыстны, себя не щадили, добывая общую справедливость и общее счастье. Но такие ответы меня тоже не устраивают. Как видно из рассказанного, не так уж бескорыстно они боролись за общее благо: а лучшие квартиры? А персональные продуктовые пайки во времена всеобщего голодомора? А роскошные государственные дачи?! И по какому праву они решали, что есть благо для няниного брата Василия? Что такое эта общая справедливость? Да, хорошо мне теперь так рассуждать. Но ведь и я не всегда так думала, составляя свои версии семейных мифов и легенд.
Детство, юность
НЯНЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ШЕВЧЕНКО
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла…
Няня появилась в нашей семье, когда мне был год. Она сама, мама и тетя столько раз рассказывали мне этот эпизод — что мне кажется, будто я сама его вспоминаю. Меня тогда летом вывезли на дачу, в какой-то дачный поселок под Харьковом. Я только начинала ходить, и по дачной дорожке отчасти проходила, а большую часть, севши на землю, проезжала на попе, отталкиваясь руками. По этому случаю на мне были синие сатиновые шаровары. И вот к калитке подходит незнакомая женщина, одетая по-деревенски, в белом платочке. Я привычным способом продвигаюсь к ней. Она, всплескивая руками, восклицает: «О, Боже ж мiй! Панська дытына та в синiх штанях!» Уносит меня в дом, и больше я никогда этих синих шаровар не видывала, а только «бiленькi», как и подобает «панськiй дiтинi».
Няня родом была из украинской деревни Никольское, километрах в 15-ти от Белгорода. Почти у всех крестьян этой деревни была фамилия Шевченко, а в соседней деревне все Кобзаревы, и само село называлось Кобзаревка, там жили «москали» — русские крестьяне. Няня, Александра Михайловна Шевченко, бежала в Харьков из Никольского от голода и от сплошной коллективизации.
В деревне она оставила своих троих детей — дочь Зину, которой тогда было лет 15–16, сына Петю лет 12-ти и совсем малого Юрика, лет 8-ми — 10-ти. Она уехала от них в город, надеясь своими городскими заработками прокормить их. Зину она выдала замуж за деревенского парня Семена, который взял на себя заботу о Зине и ее братьях. Много позже я узнала страшную тайну моей няни — ее брат Василий был раскулачен и выслан с Украины, куда — Бог весть. О нем никто никогда больше ничего не слышал. Его заколоченная хата стояла на краю няниной деревни, и когда мы проходили мимо, няня старалась даже не смотреть в ту сторону. Несколько лет спустя в этой хате поселился председатель колхоза, и няня, у которой была не хата, а худая хатенка, слова не смела сказать, не смела ничего попросить себе из братнина хозяйства. Санька (моя няня) была вдовой с тремя детьми, после ссылки брата она осталась без всякой поддержки. Вот тогда она и подалась в город, где уже служила домработницей ее односельчанка Катя. Хозяева Кати порекомендовали Саньку моим родителям в няни. Когда няня пришла к нам, ей было около сорока лет. Она прожила у нас 10 лет. Со мной она разговаривала по-украински, таким образом, моим первым родным языком (на Украине его называют «мова колыски» (язык колыбели) стал украинский. А с моими родителями и с тетей няня говорила на «суржике» — на той смеси русского и украинского, по которому я и сейчас узнаю земляков. Наверное, нянин украинский тоже был не вполне чистый: на Белгородчине деревни идут вперемешку — одна — хохляцкая, как нянино Никольское, а в соседней, скажем, за речкой или за перелеском живут москали. Мои родители и между собой, и со своими родственникам и никогда не говорили по-еврейски, ни на иврите (которого, по-моему, тогда вообще не существовало), ни на идиш. Даже очень распространенные на Харьковщине еврейские крылатые выражения, вроде «цимес мит фасолес» и т. п…у нас не употреблялись. Родители называли няню «Михайливна», а она их — маму Марусей, папу — Богоразом (даже мама папу так называла. В то полукоммунистическое время такое обращение было принято в семьях советских чиновников).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: