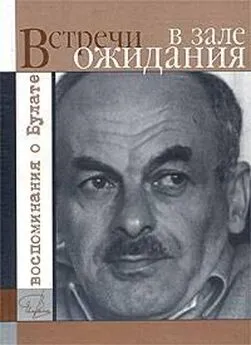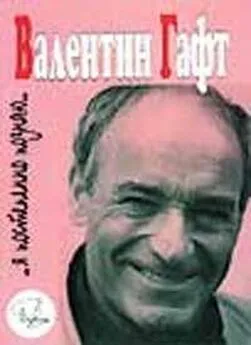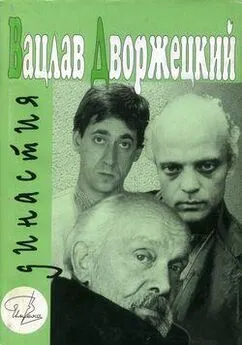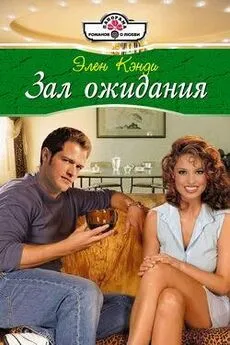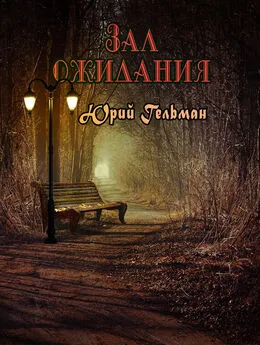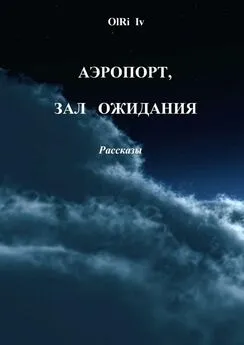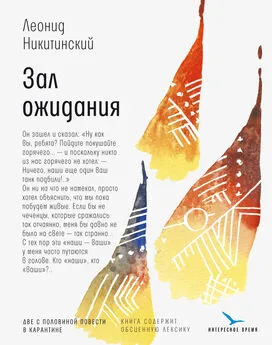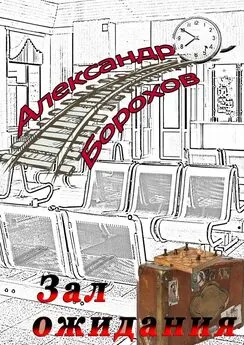Яков Гройсман - Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате
- Название:Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Деком
- Год:2003
- Город:Нижний-Новгород
- ISBN:5-89533-084-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гройсман - Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате краткое содержание
«Встречи в зале ожидания» – первая книга, состоящая из воспоминаний о Булате Окуджаве. Человек-эпоха, замечательный поэт и прозаик, в первую очередь стал известен как создатель жанра авторской песни, и его гитара была созвучна чаяниям нескольких поколений. Но сотни тысяч почитателей Окуджавы-поэта и барда очень мало знают о жизни Окуджавы-человека.
О нем рассказывают друзья Булата и те, кто общался с ним на протяжении разных лет: Исаак Шварц, Евгений Евтушенко, Владимир Мотыль, Петр Тодоровский, Татьяна и Сергей Никитины, Фазиль Искандер, Галина Корнилова, Анатолий Приставкин, Владимир Фрумкин, Лев Шилов и другие авторы, проживающие в России и за рубежом.
Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, я видел, что стихи Булата талантливы, но всё равно мне в них чего-то не хватало. Я только не мог понять, чего. Но вскоре всё разъяснилось. Булат познакомил меня со Станиславом Рассадиным, работавшим тогда в том же издательстве, но вскоре приглашенным в «Литературную газету», где я тоже активно сотрудничал и где мы с ним подружились. Однажды разговор у нас зашел о Булате, и он спросил: «А ты знаешь, что у Булата песни есть? Они очень хорошие». Я этого не знал. Рассадин спел мне какие-то песни Булата, и мне они очень понравились, усилили мой интерес и симпатию к нему, но все-таки я и тогда еще не вполне оценил их значение…
Скоро в «Литгазету» был приглашен и Булат – на должность заведующего отделом поэзии. Приход его ознаменовался смешным эпизодом. До него эту должность занимал другой хороший поэт, Валентин Берестов, – человек очень мягкий. Поэтому молодые поэты, стоило ему выйти из кабинета, тут же гуртом набивались в него, сидели на полу, на подоконнике и в его кресле, беседовали, спорили, читали друг другу стихи, – в общем, овладевали кабинетом. Так что ему иногда в своем собственном кабинете не то что работать, а просто и присесть негде было. А сказать им об этом, даже намекнуть, он был не в силах – характер не позволял.
С приходом Булата это всё сразу прекратилось. Он их просто выгнал. Как? А так – взял и выгнал. И не столько от производственной необходимости, сколько потому, что вообще не терпел, чтоб ему садились на шею. Теперь это был кабинет, в котором можно было работать.
Но работать ему много не приходилось. Относился он к отделу русской литературы, к которому косвенно принадлежал и я. Даже был оформлен как внештатный работник, отвечал на письма читателей, но подписывать ответы мне было не положено. Это объяснялось не чьим-то стремлением присвоить чужую интеллектуальную собственность, просто такой был порядок (на оригиналах ответов, отправляемых в бухгалтерию, красовалась моя подпись). В отделе литературы мы печатали Ахматову, Цветаеву, Смелякова, вообще старались печатать хорошие стихи. Естественно, Булат этому всему способствовал, насколько можно, но сам он большой энергии не проявлял. Но от него и не требовалось. Как говорится, мы ценим Булата не как газетного литработника.
Об этом можно было бы вообще не вспоминать, но именно в это время я понял, что он по-настоящему очень большое явление. Произошло это так. Я был на поэтическом вечере, посвященном павшим на войне московским студенческим поэтам, в основном ифлийцам… [24]
Этот вечер заслуживает отдельного разговора. Ибо он – знамение времени. Это был очень важный вечер. На нем тогда впервые эти погибшие на фронте поэты довоенного московского студенчества были легализованы и открыто чествовались. До этого, при Сталине, их практически не печатали, они были под негласным запретом, хотя никакой крамолы за ними не было и их в ней не обвиняли. Можно было сообщать, что ифлийцы ушли на фронт, многие погибли, но не более того. Имен их старались не упоминать, стихов не цитировать. Почему? А нипочему. Просто не соответствовали общему духу сталинщины. А тут им был посвящен целый вечер. Еще один симптом освобождения!
Вечер в целом прошел замечательно. Но то другая тема. Его я здесь коснулся только потому, что после него Булат, который сидел рядом со мной, предложил: «Пойдем ко мне ночевать. У меня коньяк есть, немножко посидим, поговорим». В этом предложении не было ничего исключительного. Булат знал, что я живу в Мытищах и поэтому часто ночую у кого-нибудь в Москве. Я согласился, и мы пришли к нему – он снимал тогда квартиру на Фрунзенской набережной. Сели, он разлил по рюмкам коньяк, мы долго разговаривали – тогда было о чем поговорить.
Потом он предложил: «Хочешь, я тебе сейчас почитаю?» И прочел стихи. Я ему сказал: «Понимаешь, Булат, эти стихи очень талантливы – ты знаешь, что я этим словом не разбрасываюсь. Но мне чего-то не хватает. Какого-то последнего обобщения, что ли…» Булат выслушал это, промолчал (он, как я потом понял, оперировать абстрактными понятиями не любил). Опять выпили, поговорили. И тут через некоторое время он опять предложил: «Хочешь, я тебе спою?» Снял со стены гитару и спел. Те стихи, которые раньше читал. Я уже описывал этот эпизод и еще раз повторяю: это не было его реваншем, он не хотел мне что-то доказать, а просто сначала прочел мне свои стихи, потом ему захотелось их спеть. Я был поражен. Только воскликнул: «Булат! Так мне вот этого как раз и не хватало!»
Это был чистый опыт, поставленный абсолютно правильно – хотя никто его нарочно не ставил. Но я могу теперь делать на его основании четкие заключения насчет того, что собой представляет поэзия Окуджавы. Это, конечно, не тексты для музыки, как лестно было думать некоторым. Ведь стихи с самого начала воспринимались как талантливые – только им «чего-то не хватало». Так вот, не хватало им как раз этой музыки, ибо она была органической, хотя и неосознанной, частью замысла. У Окуджавы есть многие стихи, которые он не пел никогда, но чувствуется, что они требуют музыки. Не вообще, а какой-то определенной, им присущей. Конечно, есть у него стихи, замысел которых для своего воплощения никакой музыки не требует. Допустим, замечательное стихотворение «Арбатские вдохновения». Оно существует само по себе – вполне закончено, вполне завершено. Но это не значит, что их замысел лучше и богаче тех, которые он исполнял под гитару. Он просто другой.
Владимир Высоцкий когда-то сказал, что песни Булата показали нам, как может усиливать стихи музыка, пение мотива. Это высказывание несправедливо не только по отношению к Булату, но и к самому Высоцкому, к лучшим его вещам – потому что они сами по себе хороши. Музыка усиливать стихи не может. Музыка не усилила «Я помню чудное мгновенье», она просто на его материале создала другое произведение. А для читателя стихотворение как было сильное стихотворение, так и осталось. Музыка может из посредственного стихотворения сделать хорошую песню, но не усилить его как поэзию: это будет другое произведение, очень хорошее, может быть, нужное, но именно другое. В настоящем стихотворении реализован весь замысел, и поэтому музыка может быть создана на нем, как на материале, но это не называется «усиливание».
Булат был поэтом. И главное в том, что, помимо всех переживаний, он был всегда приобщен к чему-то высокому, что всегда было и есть в поэзии. Существует такое идиотское убеждение, что поэзия и вообще творчество сводится к самовыражению. Это абсолютный бред, и были люди, которые всегда это понимали. Карел Чапек давно написал, что самовыражение – это умножение материи, в то время как творчество – область духа. («Поэзия – скоропись духа», – говорил Пастернак.) Надо преодолевать самовыражение. Это очень серьезное дело. У нас многие теперь поняли, что поэзия вовсе не требует обязательного соответствия современности, обязательного служения ей, поняли, что поэзия – нечто большее. Но пошли «дальше» – решили, что можно и даже нужно прямо приобщаться к вечности, просто-таки сигать в вечность – игнорируя всё, что сейчас происходит на глазах. Допустим, в Чечне. Я никому не навязываю (и даже не выражаю) своей позиции по отношению к этой сложной проблеме, я говорю только о логике. Она приблизительно такова: «Там, в Чечне, идет война, погибают мальчики, а я через искусство приобщен к вечности, работаю на вечность, и мне плевать». Такой вот образ собственной поэтичности и всего прекрасного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: