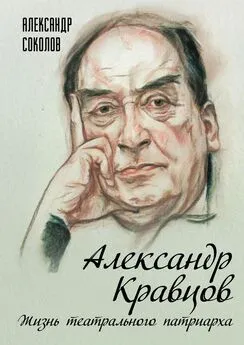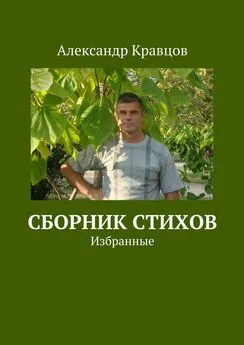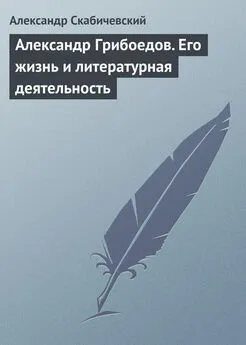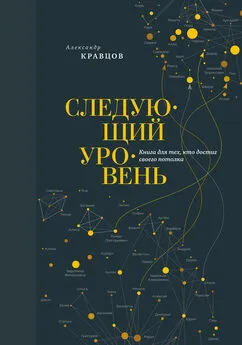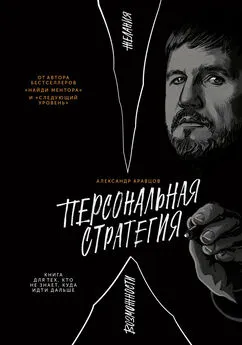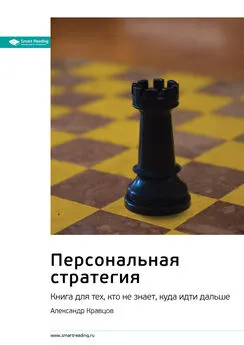Александр Соколов - Александр Кравцов. Жизнь театрального патриарха
- Название:Александр Кравцов. Жизнь театрального патриарха
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-00180-343-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Соколов - Александр Кравцов. Жизнь театрального патриарха краткое содержание
По-вашему, я трезвенник?.. Один, Успешно избежав процессов и процессий, Запоем пью четыре сорта вин Из кубка четырёх моих профессий. Некоторые называли его гением. Другие заявляли, что его личность крупнее его произведений. Но все признавали его неординарность.
Автор А. Соколов знал А.М. Кравцова более 40 лет, но и ему неведомо, как отзовётся имя Александра Михайловича в будущих поколениях. Возьмут ли его в своё будущее актёры, писатели, поэты, вообще жители нашей громадной державы, и тогда оно останется в культурном пласте России. Или незаметно, за быстротекучестью жизни тихо забудут о нём и его творениях, и оно растворится в забытом прошлом. В любом случае автора сей книги двигали душевный порыв и человеческое стремление собрать и обобщить сведения о его жизни, его творчестве, его судьбе. И желание не оставить это имя в небытии.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Александр Кравцов. Жизнь театрального патриарха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как не улыбнуться такому человеку, который пришёл к тебе из лучших дней?
– Алёша у нас – личность героическая, – приговаривал Николай Васильевич, осматривая его. – Мне рассказывали коллеги из Филатовской больницы, как он хотел поскорее вернуться в строй. Лимфатическая железка с кулачок. Доктор щупает и спрашивает: «Болит?» Алёша подтверждает. «Нехорошо», – говорит доктор. Тогда этот герой шлёпает себя по опухоли и весело смеётся: «А вот и не болит! Не болит!» Но тот попался ещё хитрее. «Ах так? – говорит. – Тогда придётся оперировать»… Но оперировать не стали – отогрели кварцем… Так было, Алёша?
– Так, Николай Васильевич…
– Значит, дух у тебя бойцовский, а это важнее всего… Мы создали отделение при одной клинике – специально для детей… Но сейчас там лежат, в основном, с голодным параличом. А нашего кавалера, да ещё с такой мудрой и энергичной мамой, можно поддерживать и на дому. Мы чудес не творим, но, насколько возможно, будем выделять для Алёши шротовое молоко и жмых. По рукам, дружище? Ничего, мы с тобой ещё пробежимся по лесу в Вырице!
– А вы помните?
– Кого же мне ещё помнить, мальчик?..
Голодный паралич пока не настиг его, хотя ноги-палочки ходили плохо, мышцы сохли и вместе с дряблыми сосудами были видны снаружи. Под глазами повисли мешки. Череп обтянут кожей с провалами на месте щёк. На неподвижном серо-зелёном лице – бесцветные выпученные глаза. От голода ныл язык, потом и он обессилел.
Алёша приладился то лежать на спине, то переворачиваться на один бок, на другой, то полусидеть – ему казалось, что так меньше хочется есть. Он много читал, и это тоже помогало не думать о голоде, спасало от отупения.
Когда становилось совсем невмоготу, он начинал мечтать об отъезде ради спасения от смерти».
Пришла весна 1942 года, Татьяна Константиновна решилась на серьёзный риск: переправиться через Ладожское озеро на Большую землю. Авианалёты и артобстрелы немцев были регулярны. Люди гибли. Но иного выхода не было – иначе голодная смерть.
Ехали поездом по ленинградским пригородам до Ладожского озера. Там несколько теплушек перекатили на рельсы парома и закрепили тормозными башмаками.
Буксирный пароход «Ижорец» потащил их к восточному берегу, выписывая синусоиды по озёрной поверхности, стараясь усложнить фашистам потопить мирное судно.
Больше всего Сашу поразил капитан буксира. Он стоял на мостике и безмятежно курил трубку. Хладнокровие этого человека, открытого всем смертям, бессильного применить хоть какое-то оружие, Саша запомнил на всю жизнь…
На восточном берегу вагоны перекатили на другие рельсы и отправили в город Тихвин, в эвакогоспиталь.
Татьяна Константиновна помогала там медсёстрам ухаживать за ранеными. Её приметило медицинское начальство Ленинградского фронта и предложило должность начальника индендантской службы, поскольку дело связано с лекарствами и медикаментами, а она, как юрист, знает латынь. Она согласилась, но с условием, что её малолетний сын также будет с ней, и была направлена в Москву, где занимались распределением таких кадров.
По советам врачей от малокровия мать кормила сына фаршем из сырой печёнки, что потом на долгие годы отбило у Саши аппетит к печёнке любого приготовления…
Конец зимы 1943 года. Её направили на юг, под Ростов-на-Дону, где шли упорные и кровопролитные бои, и военная ситуация менялась практически ежедневно, даже ежечасно. Прибыв в действующую армию, она с сыном села во фронтовой потрёпанный «Уралец», который по степи помчался к фронтовому госпиталю.
Сначала всё шло спокойно. Потом откуда-то появился немецкий бомбардировщик «Хейнкель». Он почему-то не расстреливал беспомощный грузовичок, а лишь пугал – то подлетал, то уходил чуть ли не за горизонт, не причинив вреда. Как бы издевался. Через несколько минут всё стало ясно: едва «Уралец» выскочил из-за перелеска, как нарвался на немецкую бронетанковую колонну.
Немцы от неожиданности опешили. Этим воспользовался шофёр грузовичка, резко развернулся и помчался обратно. Проезжая балку, он крикнул женщине с ребёнком, чтобы те спрыгнули и спрятались в глубокой балке, а он уведёт немцев за собой. Татьяна и сын так и сделали. Грузовик умчался. Прицельный выстрел попал в него. Ни от шофёра, ни от машины ничего не осталось…
Было начало февраля, по голой степи дул пронизывающий сырой холодный ветер. Отсидев в балке несколько часов, продрогнув до костей, они, едва стало темнеть, побежали. Устав бежать, уже только шли. Вдали приметили пирамидальные тополя и крыши хат. Когда подошли к крайней, их окликнула женщина:
– Вы чьи ж будете?
– Мы свои, – отвечала ей мать. – Ехали в часть, но попали под обстрел и вот… вышли наугад. Нам бы только обсохнуть да отогреться, а там мы снова пойдём и доложим, кому следует.
Она впустила их к себе в дом.
– Заходьте в залу, будьте гостями! Только кому ж вы здесь докладать станете, миленькие? Вы – русские, а у нас ишо немцы стоят. Сама-то ты часом не из цыган?
Татьяна рассмеялась:
– Нет, из греков, но давно обрусевших. Первая нарушила традицию рода, выскочила замуж за вашего земляка…
– Так твой тоже – с Дону?
– Он родился в Новочеркасске, учился в Казачьей гимназии имени атамана Платова.
– Вона как! Ишо и наших кровей?
На следующий день появился у плетня полицай. Заметив его, хозяйка рывком отправила мальчика в спальню:
– Не дыши!
Татьяна, накинув пальто и шапочку, вместе с хозяйкой вышли на улицу. Полицейский забрал мать с собой. Привёл к следователю, тот стал допрашивать:
– Я так понимаю, что все евреи, согласно новому порядку, пошли в одну сторону, а вы – в другую. С кем прибыли?
– Одна. Кроме того, я вовсе не еврейка.
– Зря запираетесь. Какие документы при себе?
– Паспорт.
Она положила на стол паспорт.
– По паспорту вы – русская. Но советским удостоверениям у нас не верят.
Её посадили отдельно от других арестованных, в узкий чулан.
Утром её вызвали, повели к странному автобусу с глухим, без окон, корпусом, попросили сесть туда, но по дороге её остановил мужчина в папахе-кубанке:
– Кравцов Михаил Иосифович вам известен?
– Он – мой муж. Вы знаете что-нибудь о его судьбе?
– Ваше имя-отчество, быстро!
Она ответила, и он торопливо зашагал к дому…
Татьяну подсадили в странный автобус, закрыли со скрежетом двери.
Вдруг дверь распахнулась:
– Кравцова кто?
– Я.
– На выход!
Её снова увели в кабинет к следователю. Там сидел мужчина в папахе-кубанке:
– Здравствуйте, Татьяна Константиновна. Извините, не успел поздороваться при первой встрече… Что же вы, опытный юрист, вводите в заблуждение следствие? Почему утаили, что сами из дворян, защищали церковные процессы и даже, насколько мне известно, были репрессированы? В каком году нечто подобное имело место?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: