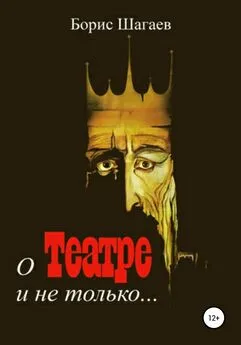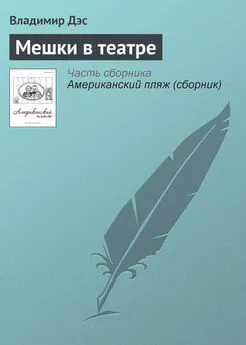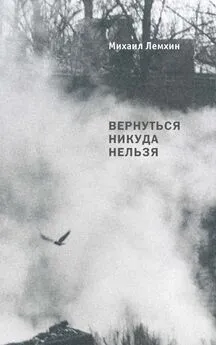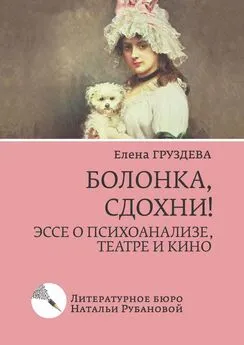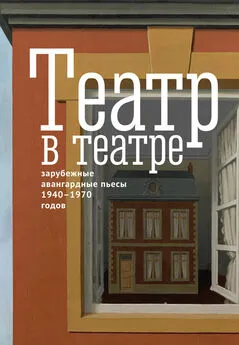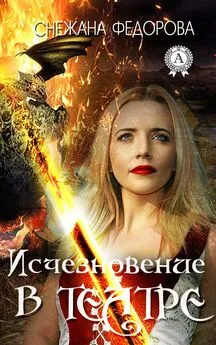Борис Шагаев - О театре и не только
- Название:О театре и не только
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Шагаев - О театре и не только краткое содержание
В этой книге больше о театре, о тех событиях, где фигурировала моя персона. Я буду писать как было, а не так, как трактуют некоторые в угоду своих оправданий. Авторы книг писали, ЧТО происходило, я же пишу КАК и почему это происходило. Для чего? Чтобы в будущем не повторяли тех ошибок, которые были.
Шагаев Борис Андреевич
Книга содержит очень большой объем информации, которая писалась отцом продолжительное время, о многих людях, временах, переводилась в текст многими соратниками, помощниками, добровольцами и просто альтруистами. Со своей стороны сделал небольшие корректировки в отношении исправления ошибок, опечаток, но сам текст книги не до конца подвергнут вычитке. Изначальный текст, смысловая подача книги с моей стороны не были затронуты.
Шагаев Алишер Борисович
О театре и не только - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Кто знает. Время было сложное, – мямлю я Народному
– Ты что? Живя в Советском Союзе, не понял что ли? Ты же говоришь, русские в Сибири помогали вам.
– Да, было такое, – соглашался я.
– Ты смотри у меня. Зла на нас, русских, не держи, – и обнял меня.
Сергей Николаевич Плотников, Народный артист СССР – был архангельский самородок. Начинал в самодеятельности, потом его взяли в театр. И более 50 лет работал у себя на родине. Сергей Николаевич был интернационалист, человек большой души. Он понимал и сочувствовал чужому горю. Ни в театре, ни в кино, а Плотников снялся более чем в 30 фильмах, ни разу не сыграл отрицательную роль. Фактура и органика не позволяли играть нехорошего человека. Интересный и душевный был мужик. Сергей Николаевич – один из немногих, кто остался в моей копилке памяти.
Под сенью чужой славы
ТОВСТОНОГОВ
Народного артиста СССР, лауреата Ленинской, государственных премий, главного режиссера театра БДТ (Большой Драматический Театр) Георгия Александровича Товстоногова весь театральный мир страны звал любя – Гога. Театралы считали его мастером, мэтром, корифеем и своим. Все признавали его мощь, профессионализм. Питерские чиновники от культуры опасались его, спектакли запрещали, как был запрещен «Дион» в его постановке. Тогда и после смерти Георгия Александровича, поговаривали, что артист Кирилл Лавров частенько просил 1-го секретаря Ленобкома КПСС Романова некоторой снисходительности к творчеству мэтра, поскольку тот хорошо относился к народному артисту. Но дружба дружбой, а идеология важнее. После запрета «Диона» в Питере закрыли этот спектакль и в Москве в Вахтанговском театре. А в театре «Сатиры» было наложено «вето» на «Доходное место» Островского в режиссуре тогда молодого еще М. Захарова. Сохраняли чистоту идеологии, а то «моду взяли» – критиковать власть и чиновников. Даже в классике усмотрели покушении на устои.
На суперзанавесе к спектаклю «Горе от ума» Грибоедова на первых представлениях зрители видели цитату из письма Пушкина: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом». Фраза эта вызвала резкую критику. Чиновники увидели в ней обидное обобщение. Товстоногову поставили условие: «Уберите фразу Пушкина и спектакль можете показывать». Чиновники победили, но победил и Товстоногов, ведь смысл в спектакле был не только «трагедия ума», но и трагедия таланта (Чацкого), трагедия бессилия. Но было и торжество ума таланта против всего косного. Я, еще студентом, видел спектакль «Горе от Ума» на генеральной репетиции с цитатой Пушкина на суперзанавесе. Увиденное мы обсуждали на курсе со своим педагогом, профессором института Народным артистом СССР, главрежем театра имени Пушкина Леонидом Сергеевичем Вивьеном.
Тогда трактовка Чацкого в исполнении Сергея Юрского, вызвал жаркий спор среди студентов-режиссеров, но сторонники Юрского одержали верх. Классика была прочтена по-современному, хотя текст Грибоедова был сохранен, но звучало по-новому и узнаваемо. В те годы главные режиссеры Вивьен и Товстоногов дружили. Вивьен однажды пригласил Товстоногова в театр Пушкина ставить спектакль «Оптимистическая трагедия» и получил за это Ленинскую премию. Они были властителями дум того времени. У них была цеховая взаимовыручка. Не то, что сейчас.
В институте я общался с Сандро (Александром) Товстоноговым, который учился на параллельном курсе. Иногда приходилось занимать рубль на чай, винегрет. Забегали в «загнивающее» диссидентское кафе «Сайгончик». Это было негласное прозвище кафе на Невском проспекте. Георгия Александровича прозвали Гогой еще в Тбилиси, а сына Александра тоже звали на грузинский манер уже в Ленинграде – Сандро. Когда Сандро работал главным режиссером в театре Станиславского в Москве, то я заходил к нему в кабинет на правах старого знакомого ещё в 80-х годах прошлого столетия. В его кабинете всегда сидели режиссеры Анатолий Васильев (его знаменитые спектакли «Взрослая дочь молодого человека», «Серсо») и Иосиф Райхельгауз. Сандро мне говорил, что они метят на его должность. После смерти отца Сандро вернулся в Ленинград под крыло Кирилла Лаврова.
В 1972 году меня по разнарядке отправили на стажировку в Вахтанговский театр на 3 месяца. Потрясающе! Москва! В Вахтанговском театре великолепные актеры, но режиссура там в то время была не на высоте. И я решил перехитрить судьбу. Переиграть место стажировки и уехать в Ленинград к Товстоногову, где была передовая режиссура и когорта талантливых актеров, да и дочка там жила. Благо еще до начала стажировки время было. Но у мэтра же надо взять разрешение. Приехав в Питер, позвонил Сандро и попросил домашний телефон отца. Сандро дал. Позвонил мэтру, представился, попросил об аудиенции. Товстоногов назначил встречу в театре.
Встретились, как договаривались, в театре. Он провел в кабинет, посадил в кресло за маленький столик, включил свет и направил на меня. На улице был день, и в кабинете было светло. Закурил. Пока закуривал сверлил меня своими рентгеновскими глазами, сквозь мощные линзы в роговой оправе. Я, естественно, волновался.
– Вы главный режиссер? – пробасил мэтр. Голос – отличительная краска мэтра.
– Нет – ответил я.
– Главный национальный режиссер? – снова не унимался мэтр.
– Нет – как заведенный твержу я.
– А почему? – загнал он меня в тупик.
Откуда я знаю, что в голове у чиновников нашего министерства – подумал я, но уклончиво ответил:
– Да у нас свои подводные течения.
– Понятно – сказал Товстоногов. Пауза. – Значит руководство не думает о национальных кадрах.
Он знал, как обстоят дела в национальных театрах и на периферии. Сам прошел школу в Тбилисском ТЮЗе, работал в Алма-Ате
– Какое население в республике, в Элисте? – начал вновь спрашивать меня мэтр.
Плюсовать, врать мэтру, неудобно. Это другим можно навешать «лапшу на уши». Ответил просто:
– Мало.
Георгий Александрович закурил. Я уже приготовился к расспросам о театре, а он неожиданно спросил:
– Сколько лет вы были в Сибири?
– 13 лет – выпалил я.
Знает, что нас выселяли, а другие не в курсе. Интеллигенты вшивые! – пронеслось у меня в голове.
– Республике помогают? – спросил мэтр.
Я сделал паузу, чтобы дать достойный ответ, не обижая верхнюю и местную власть, брякнул: – У нас же пятилетний план. Что наметят в плане, то и выполняют. Мэтр понял, что вибрирую и деликатно ухожу от острого вопроса и спросил:
– Как относятся к театру? Зритель бывает?
До этого я читал в газете статью Товстоногова о посещаемости зрителей театра, и ответил, чтобы угодить профессионалу: «Все зависит от качества спектакля».
– Это верно. Стажировку разрешаю, только и в Министерстве культуры СССР возьмите разрешение, – и мэтр встал. Аудиенция окончилась. И я на радостях рванул в Москву. А там начальник управления театров Минкульта СССР, гроза всех периферийных режиссеров Елена Хамаза сказала: «Что за самодеятельность, почему вас не устраивает Вахтанговский театр?! Все рвутся к Товстоногову! Будете стажироваться согласно разнарядке!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: