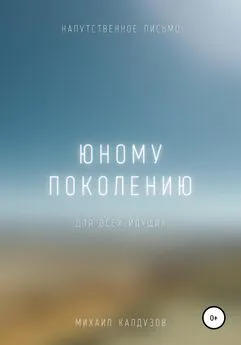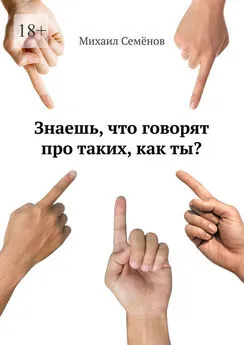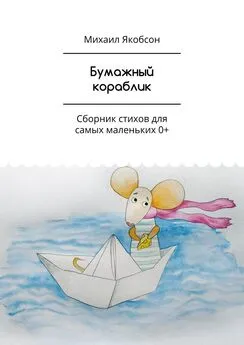Михаил Семенов - Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе
- Название:Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Семенов - Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе краткое содержание
Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дом и его двор были местом наших игр и проказ, любили ходить и на чердак. Там хозяйки обычно сушили настиранное бельё. Старшие брали гитару, покурить: вначале сушёные кленовые листья, а потом и сигареты. Вечерами в праздники, раздобыв бутылочку портвейна, с крыши наблюдали салют, город оттуда казался необычным, почти незнакомым. Двор и дом мы ощущали своими, потому без приглашений радостно принимали участие в совместных уборках снега после снегопадов. Весной за выходной день очищали двор ото льда, сбрасывая его куски в люки ливнёвки, решётки которых специально для этого снимались дворниками. Они же обеспечивали нас лопатами и ломами для работы.
На чердаке трансформаторной будки возникла стихийная голубятня, этих птиц расплодилось в городе немерено после Московского фестиваля молодёжи и студентов 1957 года. Тогдашние политические дизайнеры голубями, как птицей мира, решили недорого оформить тот международный праздник. Что-то надо было делать, ведь памятники города и здания приходили в негодность. Как-то, увидев у нас пневматику, комендант попросил пострелять этих уже «отработавших» мероприятие птиц. Но после первого упавшего к нашим ногам окровавленного голубя мы поняли свою ошибку и «отомстили» старшему «товарищу». Подкинули в его кабинет на первом этаже несколько живых птиц и плотно прикрыли дверь. За битвой с мечущимися по замкнутому объёму испуганными голубями наблюдали через окна лестниц подъездов. Жаловаться на нас взрослым АФ тогда не стал, видимо, суть понял.
Теперь об именитых обитателях дома. Жили два ректора – Политехнического и Горного, три академика, два членкора, профессоров и доцентов не счесть. Были и военные, весьма пожилые, уважаемые ветераны ВОВ: начальник артиллерийского училища; контр-адмирал Ванифатьев и генерал-полковник М.П. Константинов – Герой Советского Союза, бывший будёновец-кавалерист и даже участник Белорусского партизанского движения. Его привозил домой чёрный лакированный ЗИМ, так же до зеркального блеска всегда были начищены и генеральские сапоги. Водитель-адъютант помогал «шефу» дойти до лифта, и если мы оказывались рядом, генерал всегда радостно поднимался вместе с нами, успев расспросить об учёбе, наших играх, потрепать по голове. Дома храню подаренную тогда Михаилом Петровичем с его надписью книгу о том драматичном начале войны, когда он, кавалерист, с прострелянными ногами оказался за линией фронта в белорусских лесах и чудом добрался до местных партизан.
Рабочие дни тогдашних профессоров, для справки, длились 10—12 часов, без выходных и праздников. В основном до вузов они прошли стройки, геологические экспедиции, крупные производства, лаборатории, проектные институты и КБ. Их трудами обнаружены месторождения полезных ископаемых, разработаны теории машин и методы расчёта конструкций, исследован неизвестный ранее растительный и животный мир, построены электростанции, написаны фундаментальные учебники для подготовки инженеров и специалистов. Дома они воспитывали нас видом своего зада на рабочем стуле за письменным столом, другого времени было не много. Многие из них побывали тогда в Китае, оказывая научную и методическую помощь. Почему-то все привозили оттуда одинаковый вручную изготовленный сувенир – четверо покрытых лаком тараканов азартно играют в карты за столом. Конечно, и что-то другое. К сожалению, десятилетие хунвейбинов во многом обнулило тот труд, надолго сдержало развитие их страны. Поэтому каждый раз, услышав о желающих и у нас «пошагать вместе», мысленно сплёвываю через плечо – не дай Бог.
Мужчины нашего дома, зная друг друга, общались сдержанно, соблюдая дистанцию. Для решения личных вопросов фамильярно «по-соседски» не обращались. Конфликтов тоже не было, за редким исключением коммуналок, в которых иногда проживали по две профессорские семьи. Женщины же были более открыты и общительны, ходили друг к другу в гости, приглашали домой приятелей своих детей, часто занимали по очереди небольшие суммы денег на отдых, покупаемое ребенку пианино, какую-то мебель. Они знали каждого из нас, бабушки ещё сидели на дворовых скамьях, воспитывали советами и назиданиями, девушкам желали «женихов хороших и пятёрок в сессию».
В доме до сих пор существует детский сад, в который некоторые из наших школяров ходили. На первом этаже дома со стороны проспекта был большой обувной магазин, нас же, мальчишек, больше интересовало его крыльцо во дворе, куда привозили ящики с обувью. После распаковки эти ящики какое-то время лежали рядом с крыльцом, и мы могли для своих столярных поделок изъять из них несколько досочек, иногда и из редкого бука.
С годами обитатели дома менялись, появлялись новые. В квартире, где когда-то в 60-х жила семья индонезийского дипломата, а его дети учили нас незнакомой в ту пору игре в бадминтон с воланами из натуральных перьев, поселился солист оперы тогда Кировского театра – бас В.М. Морозов («Петр I», «Маяковский» и др.). На пятом этаже после ремонта в квартиру въехал шахматист М.Е. Тайманов с очередной женой.
Ныне в доме живут новые люди, тоже по-своему «уважаемые». Надстроили мансарду, сквер во дворе, конечно, уничтожен, всё заасфальтировано под парковочные места главных членов их семей – автомобилей.
Мы любили свой дом и его двор, радостно возвращались сюда из школы, потом из института, с работы, из командировок, из армии, с летнего отдыха. Мы выросли здесь, тут прошли юность и молодость, здесь родились наши дети. Тут мы простились с нашими дедами, кто-то потом и с родителями. Мы и близкие обитали в этом доме долгие годы, а он всё это время был, безусловно, нашей Обителью.
Завершая этот в чём-то немного грустный очерк, не могу не вспомнить самые пронзительные и памятные эпизоды той поры. На западной притенённой части дворового сквера когда-то для симметрии «воткнули» два прутика черемухи. Росли они быстро, превратились в деревья, сильно вытянутые вверх к скупым лучам солнца. В течение года в тёплое время они по этой причине болели, на листьях появлялись красные бугристые пятна и тля. Но каждый раз в начале мая происходило чудо. Чудо «нежного содрогания», извержение белоснежного пенного восторга. Волшебный запах черемухового цветения заполнял двор, проникал в открытые форточки и окна. Дом на эти пару дней затихал в какой-то истоме. Это был аромат первого судьбоносного слияния, аромат короткой сладостной вспышки, что способна зажечь костер, согревающий тебя до конца жизни.
В легких сандалиях
Ты прибежала ко мне
После ночного дождя.
Шёпот слов сладких,
Небрежно откинуты пряди со лба,
Жемчужные серьги дрожат.
И сердце вот-вот разорвётся…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
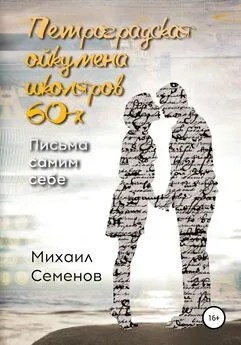
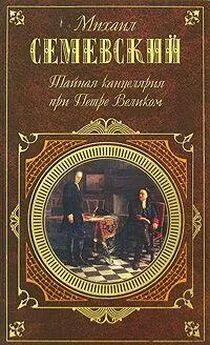
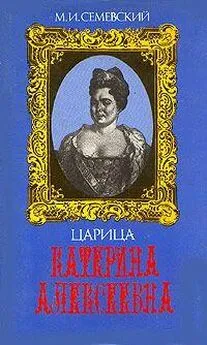
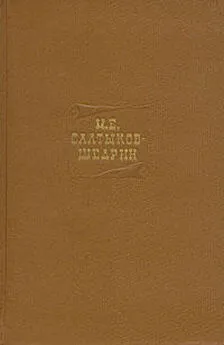
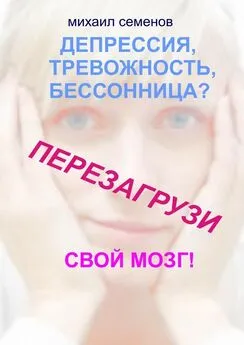
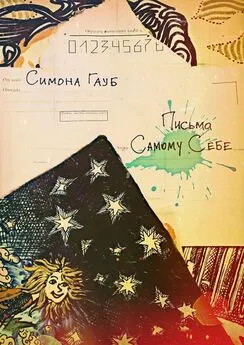
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/1094088/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya.webp)
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/1094089/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p.webp)