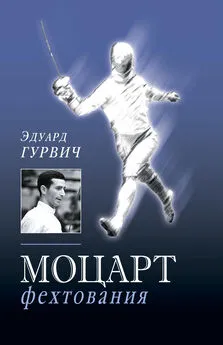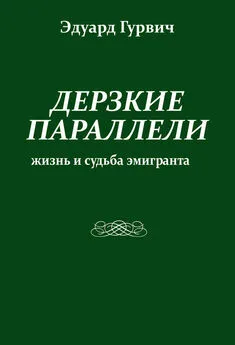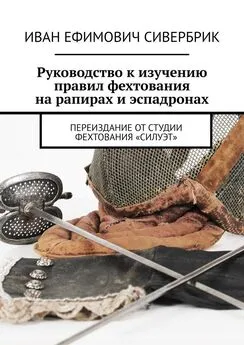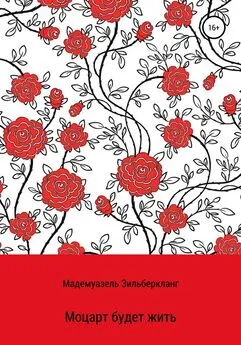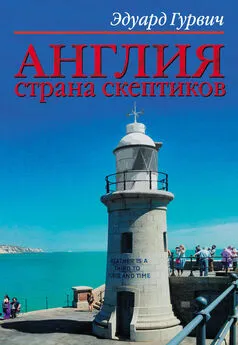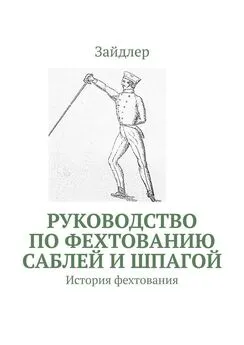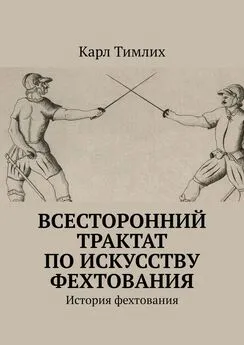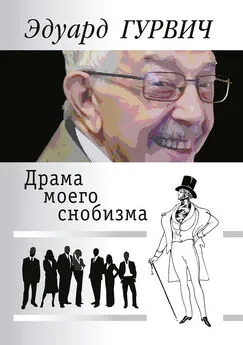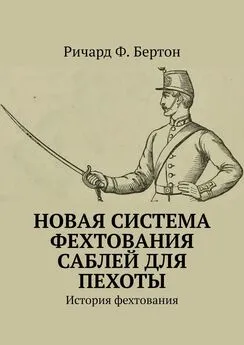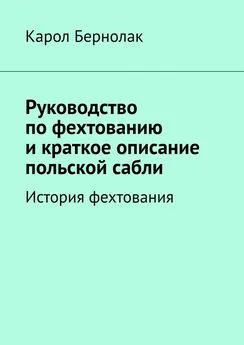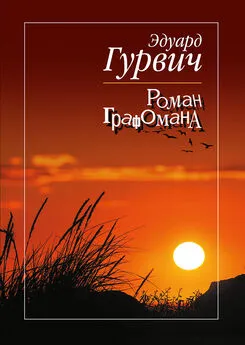Эдуард Гурвич - Моцарт фехтования
- Название:Моцарт фехтования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906132-37-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Гурвич - Моцарт фехтования краткое содержание
Второе, дополненное издание книги «Сабля Марка Ракиты»
Моцарт фехтования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Многие дома, окружавшие площадь со сквером и расположенные на ближайших к Миусской площади улицах и переулках, построены ведущими московскими архитекторами. В 1913 году на южной стороне площади заложили Собор Александра Невского. Это был проект, масштаб которого специалисты сравнивают сегодня со строительством Храма Христа Спасителя. Заложили Собор в честь пятидесятилетия освобождения крестьян от крепостного права. Вчерне его закончили как раз к 1917 году. Внутреннее пространство этого чуда архитектуры, без каких-либо опор и столбов, имело объем 43 тысячи кубических метров – в три раза больше, чем в Большом театре. Дальнейшее строительство Советы приостановили. В 1950 году стены недостроенного собора взорвали, а на его месте возвели Дворец пионеров…
Всё, что сохранилось с тех времён в Миуссах, представляет интерес не только с исторической точки зрения, но и как богатейший московский фонд недвижимости. Жилая застройка в Миуссах пополнялась и в советское время. Дом № 5, например, построили в 1960 году для преподавателей и сотрудников высшей партийной школы при ЦК КПСС, которая находилась неподалеку, на противоположной стороне Миусской площади. На углу 1-го Тверского-Ямского переулка и 5-й Тверской-Ямской улицы расположен знаменитый институт нейрохирургии имени H. H. Бурденко. Совсем неподалёку – необычное здание в виде куба с витринами. Это – Музей музыкальной культуры. Он находится рядом с тем самым домом, где жили известные музыканты – на 3-й Миусской, ныне улице А. Чаянова. Этой улице везло на переименования. Вскоре после войны её назвали в честь лидера коммунистов Чехословакии К. Готвальда. Когда коммунистические режимы в братских странах социализма пали, улицу пришлось снова переименовать. И ей досталось имя А. Чаянова, ученого-аграрника и писателя, расстрелянного коммунистами в 1937 году. Но старые москвичи, и особенно те, кто жил или живёт здесь, по-прежнему зовут её 3-й Миусской.
Именно здесь, на 3-й Миусской, в 1938 году вырос необычный дом, куда вселились чуть ли не все жившие в ту пору советские композиторы. Дом был построен архитектором Людвигом по проекту, созданному им специально для музыкантов. Если посмотреть на фасад немного издали, он имеет форму органа. Разная высота этажей, застекленные до самой крыши пролеты лестничных клеток, оконные полусферы, длинные вертикали, взмывающие вверх, действительно напоминают трубы органа.
Сталин, приручая творческую интеллигенцию, наверняка не случайно выделил для музыкальной элиты такое здание. Впрочем, если быть точным, поначалу это был один из первых советских жилищных кооперативов. Но когда уже туда вселились его обитатели, Сталин вдруг распорядился вернуть пайщикам их взносы. Композиторы получили возможность купить мебель и обставить свои новые квартиры. В благодарность обитатели элитного дома откликнулись ораториями и кантатами, славящими вождя.
В дом, как вспоминают его жильцы, тогда нельзя было войти, миновав лифтершу. Она сидела внизу на площадке рядом с лифтом, в ту пору очень красивым, облицованным панелями под красное дерево, с зеркалом и медными украшениями. Музыка, споры, взрывы хохота раздавались из окон всю ночь напролет, хотя, предназначенный композиторам дом отличался необычайной толщиной стен, стоявших на страже уединения творцов. Чтобы они, с одной стороны, не мешали друг другу, а с другой, чтобы уберечь их от невольного плагиата, чтоб ни одна нота не стала достоянием соседа…
Во дворе этого уникального дома композиторов почти сразу возвели нелепую пристройку – шестиэтажное здание, принадлежащее Министерству энергетики. Специалисты знакового ведомства проектировали и строили электростанции, в которых страна остро нуждалась. Возможно, кто-то наверху и решил – зодчих электростанций и ведущих проектировщиков следует поселить рядом с людьми искусства. Так или иначе, но дом энергетиков встал почти впритык к дому композиторов. Ему присвоили тот же номер, только с буквой «б»: 3-я Миусская, дом 4-б. Жизнь в этих зданиях существенно отличалась от жизни простых граждан предвоенной Москвы.
Марк родился в том самом доме, в семье заслуженного энергетика, Семёна Самойловича Ракиты. Отец приехал в Москву из еврейского местечка, расположенного неподалёку от Винницы. Спал на чердаках, бедствовал, но стал студентом престижного энергетического факультета Московского механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана. Впоследствии этот факультет выделился в отдельный энергетический институт – МЭИ, который он закончил с отличием и быстро вырос в ведущего специалиста. С. С. Ракита спроектировал и построил множество теплоэлектростанций, может быть, треть всех, имевшихся в стране, включая знаменитую Конаковскую, за что получил Государственную премию.
Дедушка будущего олимпийского чемпиона, Самуил Львович, до революции владел сахарным заводом. «Раскулаченный», он искал себе применение и, в конце концов, тоже оказался в Москве. Поселился в Брюсовом переулке и устроился наборщиком в типографию газеты «Труд». Дедушка был грамотным человеком, и Марк любил бывать у него, потому что тот нередко брал его с собой на работу. А однажды усадил в зале клуба типографии. Газетчики ставили пьесу «Платон Кречет», где Самуил Львович играл на скрипке. Тогда Марк впервые ощутил гордость за свою родословную. Благодаря деду, в семье жила легенда: какой-то еврей по фамилии Ракита добрался до Петербурга и добился аудиенции у самого царя. Он пожаловался на притеснения, которые испытывали его родственники в еврейском местечке в Украине, том самом, где жили и дед, и прадед, и прапрадед. Очень возможно, это был прадед Марка. Ведь фамилия Ракиты не такая уж распространённая. Как она возникла, можно только догадываться. Вероятно, предки его жили неподалёку от ракиты, нависшей над речкой. Вот и пошло: Ракиты, Ракиты…
Впрочем, с именами в этой семье было много странностей. Например, Самуила Львовича, на самом деле, звали Шмил Лейбович, бабушка Марьям-Гитл была Агатой, другая бабушка, Фрида Марковна, в паспорте писалась, как Фрейда Мордковна. В повседневной жизни имена и вовсе переделывались на русский лад – Сёма, Муся, Маша.
В той, советской реальности и легенда, и настоящие еврейские имена, и, конечно, идиш, на котором говорили в семье Ракиты, составляли ауру детства. Но Марк своё еврейство принял не сразу. Однажды пришёл со двора и спросил, правда ли, что мы – евреи – так его обозвали ребята во время драки. Да, подтвердили ему в семье, это правда, мы – евреи.
Первая реакция мальчика была непосредственной: «Я не хочу быть евреем. Я хочу быть, как все». Но позже он уже не отрекался от своего еврейства. Более того, встречаясь с антисемитизмом в быту, без промедления давал отпор. И не только у себя во дворе. Однажды в метро предложил двум рослым антисемитам выйти на станции и «разобраться». Они вышли, и он был полон решимости довести дело до конца: подозвал милиционера, стоявшего у входа, но они трусливо сбежали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: