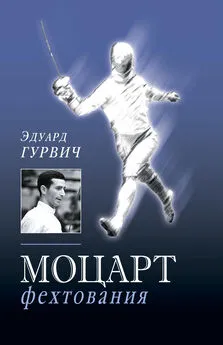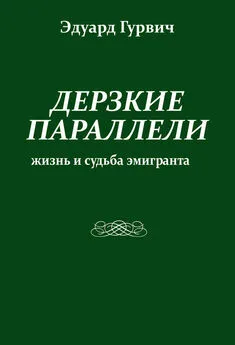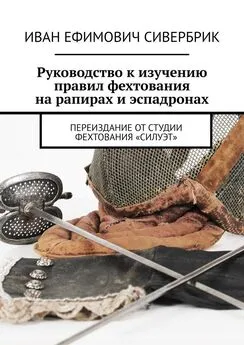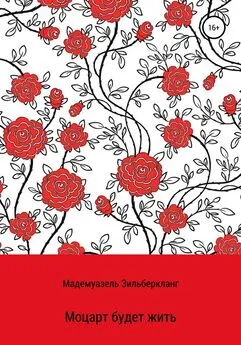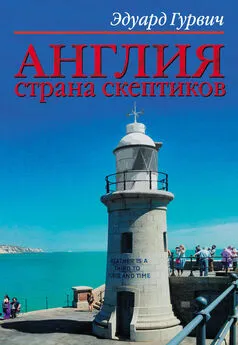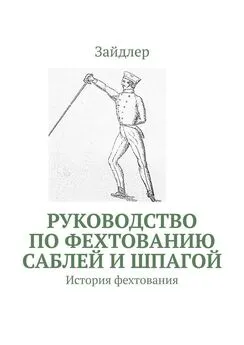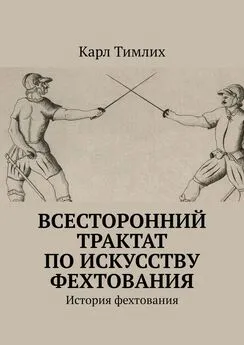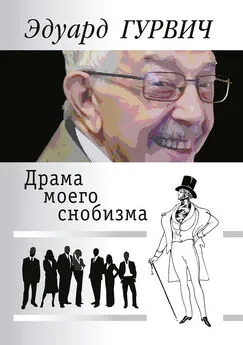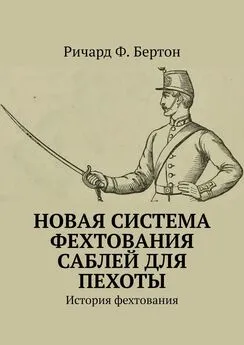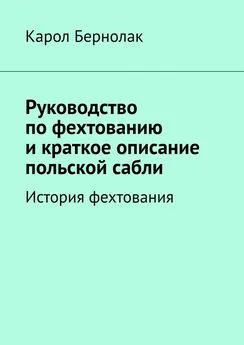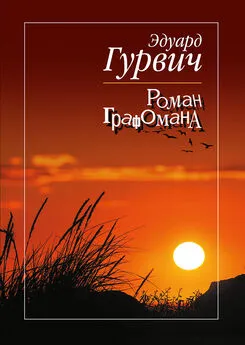Эдуард Гурвич - Моцарт фехтования
- Название:Моцарт фехтования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906132-37-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Гурвич - Моцарт фехтования краткое содержание
Второе, дополненное издание книги «Сабля Марка Ракиты»
Моцарт фехтования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Восхищаются со стороны, считая это родом провинциальности…
Впрочем, диалогов такого рода у нас будет много. А пока вернусь к повествованию.
Глава II. Двор
Когда началась война, по всей Москве ввели затемнение. На окнах опускали шторы из синей плотной бумаги. Две белые бумажные перекрещивающиеся полосы на стеклах должны были их сохранить во время бомбёжек. В небе повисли аэростаты. Всё чаще объявляли воздушную тревогу. Бомбоубежище, находившееся в подвальном зале дома композиторов, набивалось, прежде всего, детьми. Туда же спускались трёхлетний Марк со старшей сестрой. Но вскоре энергетиков с семьями решено было отправить на Урал. Комнаты закрыли на замок, ключи сдали в домоуправление и поехали на вокзал. Марк помнит, что на привокзальной площади у взрослых оказалось слишком много тюков. На пути к платформе и ему дали в руку сетку, которую называли авоськой. В семье позже вспоминали, с какой важностью в этой авоське он тащил к эшелону три килограмма репчатого лука. Почему-то именно три.
Эвакуацию семья провела на Урале. Отец получал «генеральский паёк», который мать с бабушкой обменивали в окрестных деревнях на сметану и мешки с семечками. Из этих семечек делали подсолнечное масло. Мешки стояли на кухне. Когда никого из взрослых там не было, Марк с сестрой пробирались к мешку и делали дырку, ссыпая в ладоши семечки… Очевидно, годы эвакуации были голодными. Но Марк это помнит плохо. Помнит только семечки.
В конце 1943 года семьи энергетиков вернулись в Москву. Война ещё продолжалась, но фронт продвигался к границе, оставляя за собой пепелища. Всем было понятно, без электроэнергии восстановить разрушенную промышленность невозможно. Специалисты НИИ «Теплоэлектропроект», где работал отец, составляли «золотой запас». В этот период они получали повышенные пайки, льготы, всё. От них требовалось только одно – в максимально короткие сроки выдавать проекты, привязанные к местности, и строить новые электростанции. Отец постоянно ездил в командировки, уходил на работу ранним утром и возвращался поздним вечером.
Марк его почти не видел. Он подрос и, конечно, пропадал во дворе. Пока семья находилась в эвакуации, двор изменился. Теперь он представлял собой своеобразное каре. Вход – через арку главного здания был всё тот же. Напротив, торцом к арке, как было и до эвакуации, стояла их шестиэтажка энергетиков. А вот слева выросли бараки. Дальше – гаражи. На задах двора поставили новую котельную, которая казалась тогда внушительным строением. Именно сюда, к котельной, всем двором сбегались теперь ребята играть в «войну», в хоккей, а после того, как посмотрели фильм «Кардинал Ришелье», фехтовать на палках.
Двор же, на самом деле, был очень необычный. Реник (Карен) – сын Арама Ильича Хачатуряна, Юра – сын Дмитрия Кобалевского, сыновья Шапорина… Дети «маститых» композиторов играли с мальчиками и девочками других композиторов, «помельче» – Будашкина, Покрасса, Александрова, Иванова-Радкевича…
Из дома энергетиков выбирались на тот же Двор и дети руководителей министерства, проектировщиков, крупных инженеров. Ребята из голодных окрестных деревень, жившие в бараках, быстро освоились во Дворе, хотя были далеки от искусства. Родители их работали дворниками в Миуссах или грузчиками на предприятиях поблизости. Но никто в том Дворе на это не обращал внимания. Все были равны, когда играли в «казаков-разбойников», прятки, салки. Не только сами Творцы музыки, но и их отпрыски, никому из детей Двора не казались чем-то неземным. Ну, ездили они на трофейных «эмках». Ну, одеты немного лучше, чем другие. Ну, по радио звучали имена Глиэра, Мурадели, Хачатуряна. Это было не важно. Выбегая из своих подъездов, дети Двора перемешивались, дружили, курили, ссорились, мирились, матерились. А вечерами все ходили к «Композиторам» смотреть кино. Там, на первом этаже, располагался кинозал.
В семье Марка тем не менее говорили, к примеру, что в том доме живёт Зиновий Львович Компанеец. Но Марку и его сверстникам тогда в голову не приходило, что тот – настоящая знаменитость! Каждое утро миллионы людей от Москвы до Владивостока просыпались под бодрящие мелодии этого композитора «На зарядку». А потом уже звучал голос диктора Всесоюзного радио Гордеева: «Доброе утро, товарищи!.. На зарядку становись! Шагом, марш: раз, два, три…»
– И сегодня от меня, – смеётся Марк, – мои внуки, не знакомые с прошлым страны, всё равно могут слышать, как я напеваю эту мелодию Зиновия Компанейца – «На зарядку становись!» Но мы-то во Дворе сталкивались с этим Компанейцем и пробегали мимо, здороваясь или нет. А вот на втором этаже этого замечательного дома жил наш настоящий друг, композитор Вано Мурадели. Он наблюдал за футбольными матчами, которые устраивались под его окнами. Сначала мы играли тряпичными мячами, которые шили наши мамы и бабушки. Потом появились настоящие мячи с надувной камерой. И когда вдруг прохудившаяся камера спускалась, Вано Ильич бросал нам из окна 5 рублей. Мы тут же неслись в магазин «Динамо», на Тверскую улицу. Футбольная камера стоила 4.50, а на оставшийся полтинник покупали 7 пачек фруктового мороженого по 7 копеек или три пачки настоящего, сливочного, по 15 копеек.
Ребята из других домов сюда не приходили. Они считались чужими. Более того, Двор «войной» ходил на «серую коммуну». Так почему-то прозвали татар, живших по соседству – в каменном доме. Драки с ними были серьёзные. Они ненавидели «элитных» детей и подкарауливали их, когда те выбегали из своей арки. Бегать же было куда. Например, к строящемуся зданию «Трёх райкомов» – Свердловского, Ленинградского и Фрунзенского, где работали пленные немцы. Им через забор бросали хлеб, а они в обмен – выточенные из деревяшек пистолеты. В таком пистолете торчало металлическое дуло из пустой гильзы. Туда насыпали серу, счищенную со спичек, поджигали и стреляли. Хлопки походили на настоящие выстрелы, доставляя прохожим немалое беспокойство.
Сбегали со Двора и в подвалы недостроенного Собора Александра Невского. Там играли в ту же «войну», а, самое главное, искали подземный ход к Кремлю. Ребята были убеждены, что он есть. Из подвалов возвращались, когда уже темнело. Тут-то их поджидали «враги» из соседнего двора. Приходилось отбиваться. Бежать с «поля боя» было невозможно. Это сплачивало.
– Мы в нашем Дворе, – вспоминает Марк, – случалось, дрались и между собой, но быстро мирились. С ребятами же из «серой коммуны» – никогда.
Вот такое раннее социальное расслоение было в стране, где… все равны. История творилась рядом, хотя ребята ещё плохо понимали это. И вдруг все по-настоящему ощутили её дыхание. Вдруг стало очевидным – дети композиторов, энергетиков, дворников, ребята из окрестных дворов, все были одинаково заряжены советской пропагандой. Все любили Родину, Кремль, вождя. Во время ребячьих игр, не задумываясь, присваивали себе имена «полководцев», сталинских маршалов, сталинских «соколов», за исключением имени самого Отца народов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: