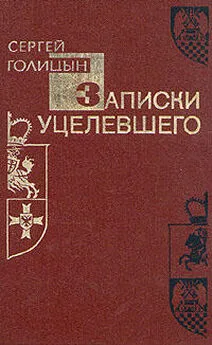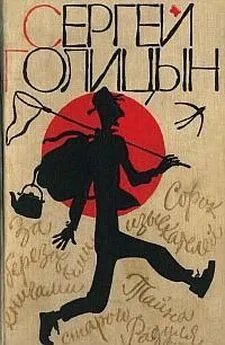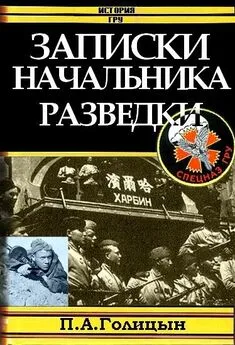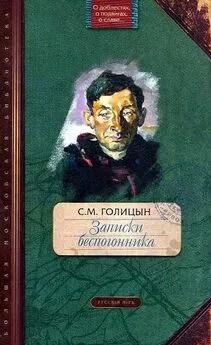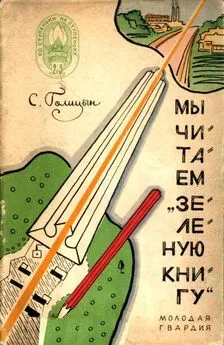Сергей Голицын - Записки уцелевшего
- Название:Записки уцелевшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Орбита
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-85210-018-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голицын - Записки уцелевшего краткое содержание
Это произведение — плод творчества многих лет писателя Сергея Голицына, одного из представителей знаменитого княжеского рода Голицыных.
Удивительная память Сергея Голицына возвращает читателям из небытия имена сотен людей, так или иначе связанных с древним родом.
Русский Север, Волга, Беломорстрой — такова неполная география «Записок» картины страшной жизни Москвы второй половины 20-х годов, разгул сталинских репрессий 30-х годов.
Воспоминания правдивы, основаны на личных впечатлениях автора и документах тех далеких лет, наполнены верой в победу добра.
Эти воспоминания не предназначались для советской печати и впервые вышли в свет в 1990 г. уже после кончины автора.
Записки уцелевшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэт мне впоследствии написал что никакой статьи не напечатали. Ну что же, для наших порядков это было естественно.
4
Возвращаюсь к путешествию своей юности. Сорок верст от Белозерска до озера Новое мы преодолели с трудом — то и дело принимался дождь, да еще с ветром, и дорога шла по сгнившей гати через болото. Добрались мы до деревушки на берегу озера только к вечеру, мокрые, усталые, со сбитыми ногами, переночевали у одинокого старика, он подрядился перевезти нас на следующее утро в Новоезерский монастырь, чей силуэт едва проступал сквозь пелену дождя.
Утром, невыспавшиеся, хмурые, в непросушенной одежде, поплыли мы по озеру. Дождя как не бывало, солнце, прогревая нас, бодрило. Андрей взялся за весла, перевозчик сел у руля.
Уровень воды в озере почти не поднимался от весеннего половодья, и потому белые стены монастыря вырастали из самой воды. За стенами высовывались две-три лавки белых церквей, колокольня. И стены с башенками, и церкви отражались в синей глади озера и сверкали на солнце.
Перевозчик нам объяснил, что монахов осталось всего пятеро, живут они дарами богомольцев, да рыбачат, да есть у них внутри ограды малый огород, а раньше на берегу озера сеяли они на лесной поляне жито, но этой весной сельские власти запретили им пахать, и поляна теперь зарастает бурьяном.
Игумен отец Иоанн — старец святой жизни, раньше приходили к нему за разными советами многие люди, но теперь богомольцев поубавилось, да и старцу девятый десяток пошел, он все болеет и мало кого принимает. А монастырским хозяйством ведает келарь, отец Виталий, тот помоложе будет. Он монах умный, хозяйственный.
Лодка наша пристала к небольшому, заросшему ветлами островку, с островка по мелководью шел длинный деревянный мост к монастырским воротам. Перевозчик взял с нас по гривеннику, и мы пошли по мосту, оживленно переговариваясь. Андрей предложил отдать монахам все наши продукты — початый каравай хлеба, да сало, да мясные консервы.
— А не обидятся ли они, что мы их искушаем скоромной едой? засомневался я.
Решили, там видно будет. И денег им дадим, только бы повидать отца Иоанна.
У монастырских ворот сидел на лавочке слепой, с длинной изжелта-белой бородой древний старец, в скуфье, в порыжелой темной рясе. Опустив голову, он потихоньку пел молитвы.
Мы подошли к нему вплотную, он сидел все так же, неподвижно, не поднимая головы. Ничего мы от него не добились. Неужели он так углубился в молитвы? Позднее мы узнали, что был он не только слепым, но и глухим.
Сквозь открытые ворота мы прошли мимо него внутрь монастыря. Было совсем тихо, только птички пели в кустах малины и смородины. Белые церкви и колокольня не показались нам старинными. Несколько малых домиков, каменных и деревянных, припало к стенам, окна были заколочены, крылечки заросли травой. Мы остановились в недоумении: куда идти?
Нас окликнул откуда-то вышедший молодой монах; добродушно улыбаясь, он повел нас к келарю отцу Виталию, полному, очень подвижному монаху. Мы рассказали, кто мы и откуда. Вот ходим по старым монастырям и очень бы хотели попасть к отцу Иоанну.
Отец Виталий о свидании с отцом Иоанном отвечал уклончиво, "к вечеру будет видно" — и предложил нам идти с ним на рыбалку, чтобы наловить на сегодняшнюю трапезу.
Ловили мы втроем удочками с моста. Никогда в жизни я не участвовал в подобной рыбной ловле. Закидывали — вытаскивали, закидывали — вытаскивали. А в прозрачной воде рыбы, малые и побольше, плавали во множестве.
Отец Виталий, поминутно снимая с крючка пойманную рыбешку, рассказывал нам о суровой жизни монастыря. По зимам редко кто к ним заглядывал. Самая беда у них — всё ждут, каждый день в тревоге: вот придут и всех их разгонят. А кому они мешают — за болотами, за лесами? Тут и селений вовсе мало. И другая у них беда: в монастыре храмы уже год, как стоят запечатанные, явился какой-то, с ихним председателем, и печати на двери наложил. Теперь негде службу справлять. Они бы и в покоях отца Иоанна устроили бы малую церковку, да без антиминса* [22] Антиминс — небольшой шелковый четырехугольный платок с вышитой на ней евангельской сценой: "Положение Христа во гроб", над изображением вшита малая частица мощей. Антиминс — самый священный предмет в храме, он кладется в алтаре на престол под Евангелие, на нем совершается освящение Святых Даров. Если антиминса нет, литургию служить невозможно.
нельзя. Собираются по вечерам, молитвы поют и читают, вечерню служат. Так без святого причастия и живут.
— А как бы нам повидать отца Иоанна? — перебил Андрей.
— Спрошу его, может, и примет, — отвечал отец Виталий, насаживая червяка.
Через час мы наловили полное ведерко окуньков да ершей — хотели уже удочки сматывать, как вдруг заметили вдали на озере большую лодку, в три пары весел.
— Батюшки, кого же это лукавый несет! — воскликнул отец Виталий и начал быстро креститься дрожащей рукой.
В монастыре тоже заметили лодку. К нам подошли два монаха — тот, молодой чернобородый, кто нас первым встретил, — отец Никандр и еще один, старенький, низенький, лохматый, — не помню, как его звали. Все трое тревожно заговорили — кто едет, по какой надобности? — и поминутно повторяли имя Божие. Они пошли по мосту к маленькому островку, где была пристань, встречать непрошеных гостей. Андрей и я, оставив улов, двинулись следом.
Лодка приближалась. В ней было пятеро, трое гребли, четвертый — наш утренний перевозчик — сидел у руля, а пятый, высокий, в брезентовом плаще, сидел на носу. Кроме этого высокого, остальных монахи еще издали узнали все здешние, один из гребцов был председатель сельсовета.
— Батюшки! Да ведь это тот, кто у нас храмы запечатывал, — прошептал отец Виталий. — Господи, Господи!
Лодка подплыла. Первым вышел высокий в плаще. Все трое монахов стеснились друг к другу, словно искали поддержки.
— Здравствуйте, отцы святые! Гостя к вам привез, — важно сказал председатель сельсовета — с виду обыкновенный русый с бородкой мужичонка, однако для солидности державший толстый, неизвестно какими бумагами набитый портфель.
Все трое монахов низко поклонились. Высокий ответил им небрежным кивком и тотчас же повернулся к нам.
Теперь свыклись, что бдительность надо проявлять везде и всюду, а тогда достаточно было перевозчику рассказать властям, что утром он перевез в монастырь двух московских студентов-путешественников, и всё. Никаких документов у нас не спросили, а высокий обратился к нам со словами:
— Мoлодцы, что: путешествуете, стариной интересуетесь?
Перевозчик остался у лодки, все остальные направились по мосту к монастырским воротам.
Отец Виталий торопливо шагнул вперед, хотел было что-то сказать высокому, а тот, не обращая на него никакого внимания, стал объяснять Андрею и мне: мол, он научный работник Череповецкого музея, сейчас прибыл в монастырь, чтобы «изъять», как он выразился, старинные иконы и книги. Он расспросил нас, где побывали, куда путь держим, и крайне удивился, что не собираемся идти в Ферапонтов монастырь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: