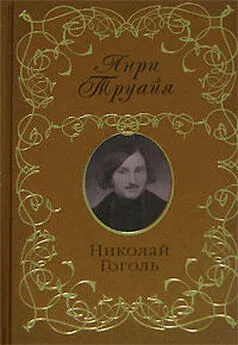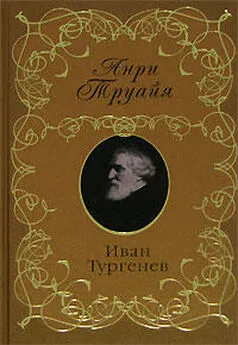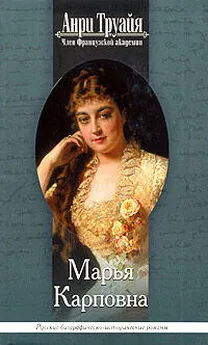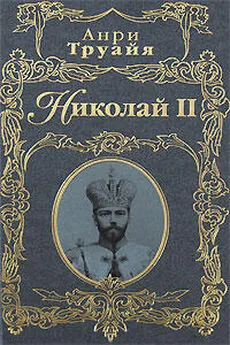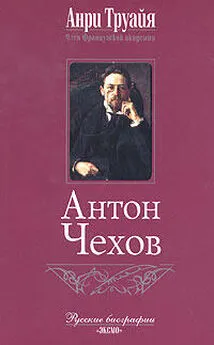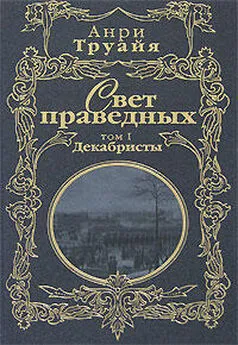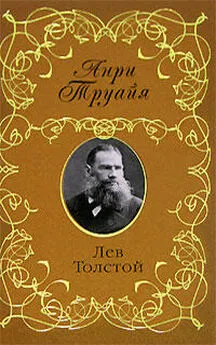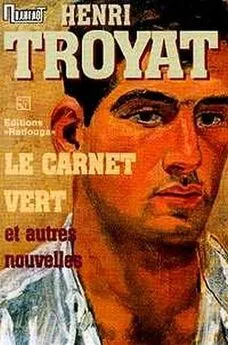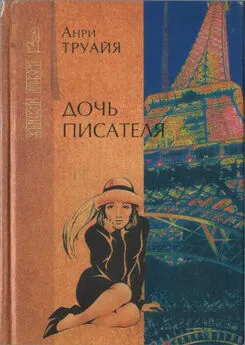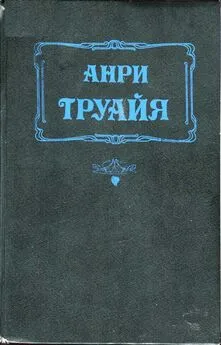Анри Труайя - Николай Гоголь
- Название:Николай Гоголь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0b7eb99e-c752-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-24319-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Труайя - Николай Гоголь краткое содержание
Николай Гоголь – один из самобытнейших русских писателей, слава которого вышла далеко за пределы отечественного культурного пространства. И в то же время нет более загадочной фигуры в русской литературе, чем Гоголь. О его жизни и смерти существует больше мифов, чем о любом другом литераторе. Отчего Гоголь никогда не был женат? Почему у него никогда не было собственного дома? Зачем он сжег второй том «Мертвых душ»? И, конечно же, самая большая загадка – это ужасная тайна его смертельной болезни и смерти…
Знаменитый французский писатель Анри Труайя в своей книге пытается разобраться в секретах Гоголя, выяснить правду о его творчестве, жизни и смерти.
Николай Гоголь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И во имя своих «сильных мыслей» и «глубоких явлений» он снова молил своих друзей прийти ему на выручку. Бог одаривает его вдохновением; задача же людей обеспечивать его материально, чтобы он мог воспользоваться им для творчества. Он готовился им преподнести такой подарок, что с этого момента он становился их кредитором.
«Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин, – писал он Аксакову несколько месяцев спустя. – Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушенье не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно». [279]
Эти деньги, в которых его друзья не смогут отказать ему, он вернет, как только будет опубликован первый том «Мертвых душ», то есть не позже, чем через год. Он даже был полон решимости самому ехать в Россию, чтобы защищать рукопись перед цензурой и следить за процессом печати. Но его беспокоило его жалкое состояние здоровья.
И он полагал, как нечто само собой разумеющееся, что актер Щепкин и сын Аксакова Константин захотят приехать за ним в Рим:
«Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь». [280]
Тем временем в Москве встречались Аксаков и Погодин, чтобы посоветоваться. Бесконечные просьбы Гоголя выслать ему деньги смущали их обоих. Погодин, который с января 1841 года издавал журнал «Москвитянин», считал, что в обмен за авансированные суммы, «итальянец» мог бы прислать ему несколько страниц в журнал. Аксаков осторожно высказал эту точку зрения в письме Гоголю. Гоголь возмутился, прочитав его. Писать на заказ? За кого его принимают? Без сомнения, его московские друзья не поняли миссионерского характера его задачи. Он ответил Аксакову:
«Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже, если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, – какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда – для меня уже беда. Никогда б не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько б у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи!.. Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня! Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для мелочного; и для презренного ли журнального прошлого занятья ежедневными дрязгами я должен совершать непрощаемые преступления?.. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала; но что он, если у него бьется русское чувство любви к отчеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего». [281]
Но в марте и апреле 1841 года Погодин, вопреки желанию Гоголя, опубликовал в «Москвитянине» несколько сцен из новой версии «Ревизора» и отрывок из письма Пушкину. Он отметил в своем дневнике: «Письмо от Гоголя, который ждет денег, а мне не хотелось бы посылать». Как бы то ни было, деньги он отправил. Слишком мало, по мнению получателя, который ожидал вдвое больше.
«Благодарю много за деньги. Я их получил, но это, однако ж, как ты сам знаешь, только половина. Я расплатился с долгами и сижу на месте. Если ты не выслал остальных двух тысяч еще до получения сего письма, то мне беда, беда, потому придется оставаться в Риме на самое жаркое время лета, которое, во-первых, совершенно пропадет, а во-вторых, может нанести значительный вред моему здоровью». [282]
Еще одно обстоятельство волновало его: Аксаков недавно потерял сына Михаила, и Константин, второй сын, пораженный таким неожиданным несчастьем, не хотел покидать родителей даже ради того, чтобы сопровождать писателя, которым он восхищался больше всех. Щепкин тоже сообщил, что не сможет приехать в Италию. И Панов должен был скоро покинуть Рим, чтобы отправиться в Берлин. Гоголь вдруг почувствовал себя всеми покинутым. Ему казалось немыслимым, что нет ни одного русского, преданного ему настолько, чтобы составить ему компанию.
«Досадно мне очень, как подумаю, что мне придется возвращаться одному, – писал он в том же письме Погодину, – почти страшно: перекладная и все эти проделки дорожные, которые и в прежние времена не очень были легки, теперь, при теперешнем моем положении, мне кажутся особенно тягостны…Ужасно жалко мне Аксаковых, не потому только, что умер у них сын, но потому, что безграничная привязанность до упоенья к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье».
Пасхальные праздники, которые он собирался провести, погрузившись в печаль, принесли ему великую радость. Нежданно-негаданно в его квартиру нагрянул толстенький и усатенький человечек, с родинкой на подбородке, – это был его друг П. В. Анненков, прозванный им «Жюлем». Анненков направлялся в Париж, а в Риме был проездом. Гоголь тут же объяснил ему, что Париж – это клоака в сравнении с Вечным Городом, и упросил его остаться хотя бы на несколько недель ради любви к искусству и их дружбы. Панов как раз уезжал в Германию, и его комната оставалась свободной. В ней и поселился П. В. Анненков и вызвался переписывать «Мертвые души» под диктовку Гоголя. Было решено, что они будут работать по часу в день. Остальное время каждый мог занимать по-своему. Но в действительности они виделись довольно часто вне стен квартиры, и, даже когда оба были дома, дверь между двумя комнатами оставалась открытой.
Гоголь вставал рано и писал, стоя перед письменным бюро. В промежутках работы он откладывал перо и выпивал стакан холодной воды. Он мог так осушить два-три кувшина за утро. С тех пор, как он заболел в Вене, он пришел к выводу, что только питье вод может ему помочь. Его организм, говорил он Анненкову, был устроен совсем иначе, чем организмы всех остальных людей; у него, кроме всего прочего, был «какой-то извращенный желудок». «Вы этого не можете понять. Но это так. Я себя знаю…» Все это не мешало ему, исписав несколько страниц, отправляться в кафе «del Buon Gusto», чтобы заказать себе там обильный завтрак. Он особенно придирался к качеству сливок, которые он добавлял в кофе. Плотно покушав и напившись кофе, он имел обычай отдыхать, растянувшись на диване. В назначенный час друзья встречались дома для переписки поэмы. Гоголь закрывал ставни, чтобы скрыться от раскаленного жара улицы, садился за круглый стол, открывал тетрадку и начинал диктовать. «Он диктовал, – напишет впоследствии П. В. Анненков, – мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома „Мертвых душ“ приобрели в моей памяти особенный колорит. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: „Ecco, landrone!“ („вот тебе, разбойник!“). Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь: „Как разнежился, негодяй!“ – и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина». [283]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: