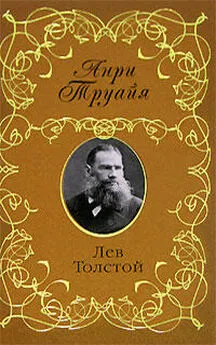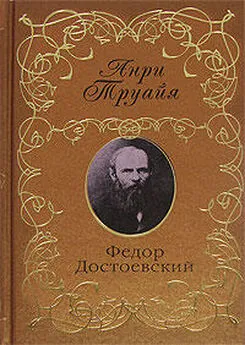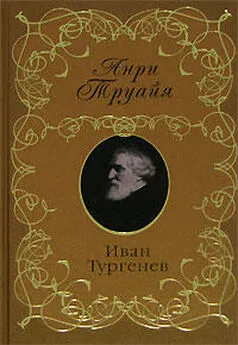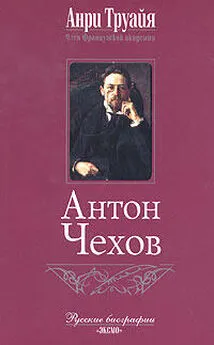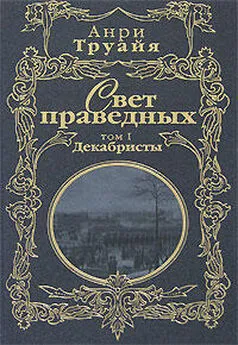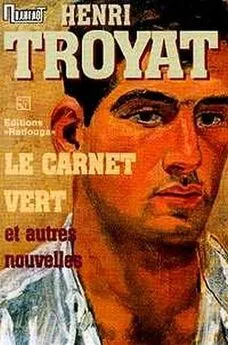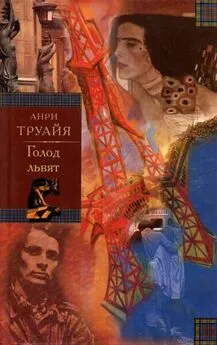Анри Труайя - Лев Толстой
- Название:Лев Толстой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0b7eb99e-c752-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-23274-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Труайя - Лев Толстой краткое содержание
Духовное наследие Л.Н.Толстого – великого русского писателя, художника, мыслителя – воспринимается неоднозначно. Для одних он – еретик, восставший на основы православия, для других – философ и гуманист, опередивший свое время на несколько столетий, для третьих – «лавка древностей», «музей прошлого». Ярлыков навешано на Толстого много, но ясно и другое – он продолжает волновать умы и сердца многих людей разных возрастов и разных национальностей. Его философия и литературное наследие являются бесценным достоянием всего человечества. Анри Труайя предлагает читателям составить собственное мнение о личности и творчестве этого величайшего деятеля русской культуры XIX–XX столетия.
Лев Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Настала зима, в засыпанном снегом доме семья грелась у печей, и Толстой понемногу обрел уверенность в своем дальнейшем земном существовании.
Часть V
Тоска и ужас
Глава 1
Между двумя большими произведениями
«Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю, играю в безик, хожу на лыжах, на коньках бегаю и более всего лежу в постели (больной)», – писал Толстой своему другу Фету в феврале 1870 года. Впрочем, картина эта не вполне соответствовала действительности: и в сорок два года, как и в двадцать, интенсивная умственная работа не оставляла его. Между выходами на лед замерзшего пруда, на котором, скользя, с развевающейся бородой он элегантно выписывал восьмерки, Лев Николаевич погружался в чтение. Этой зимой его захватила драма: читал и перечитывал Шекспира, которого не любил, Гёте, Мольера, Пушкина, Гоголя, сам думал написать пьесу, действие которой развивалось бы во времена Петра Первого. Изучив эту эпоху ближе (в этом ему помогла «История царствования Петра Великого» Устрялова), решил посвятить ей роман. Тут же принялся делать заметки, составлять план и даже набросал одну главу. Но с первыми солнечными днями, оставив бумаги, поспешил на улицу – весной в имении столько дел! «Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьич, возвращаясь потный с работы с топором и заступом, за 1000 верст от всего искусственного и в особенности нашего дела», – сообщает он Фету 11 мая. А позже добавляет: «Я, благодарю Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава богу, не думаю». Не думал и о политике, шумы внешнего мира не проникали за двери его убежища. Ни война 1870 года между Францией и Пруссией, ни Парижская коммуна не занимали его. Открывая порой дневник, записывал философские изречения или делал наброски к своей «Азбуке». Соня, беспокоилась – так, казалось ей, он попусту растрачивает себя, мечтала о дождях, которые заставили бы мужа вернуться в кабинет. Хотелось вновь пережить плодотворные годы создания «Войны и мира».
К осени стало похоже, что ее желание сбылось: «А теперь у нас очень, очень серьезная жизнь, – пишет она брату. – Весь день в занятиях, Левочка сидит обложенный кучею книг, портретов, картин и нахмуренный читает, делает отметки, записывает. По вечерам, когда дети ложатся спать, рассказывает мне свои планы и то, что хочет писать… Выбрал он время Петра Великого…» [430]Через месяц продолжает: «Сам он не знает, что будет из его работы, но мне кажется, что он напишет опять подобную „Войне и миру“ поэму в прозе, но из времен Петра Великого». [431]
Соня ошибалась. Внезапно Толстой отказался от своих начинавших жить персонажей – не чувствовал, не видел их, плохо представлял себе среду, в которой они жили. Начало нового романа для публикации в «Заре» умолял отдать ему Страхов, но Лев Николаевич с грустью отвечал, что ничего не может обещать: «Я нахожусь в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и вместе с тем упорной внутренней работы. Может быть, это состояние предшествует периоду счастливого самоуверенного труда, подобного тому, который я недавно пережил, а может быть, я никогда больше не напишу ничего». [432]
Толстой питал искреннюю симпатию к своему корреспонденту с тех пор, как тот опубликовал хвалебную рецензию на «Войну и мир». Его занимала и только появившаяся его статья о роли женщины, где Страхов говорил, что благодаря физической и духовной красоте женщину следует признать венцом творения, если только та не отказывается от своего предназначения. Рожденная очаровывать и быть матерью, она становится чудовищем, когда уклоняется от поприща, уготованного ей Богом. Феминизм, по Страхову, преступление против природы, долг мужчин – помешать своим спутницам поддаться этому искушению. Готовый встать под его знамена, Толстой, тем не менее, замечает, что некоторые женщины, не будучи ни женами, ни матерями, могут быть полезны обществу: няни, сиделки, тетушки, не имеющие забот вдовы, все те, кто занимается чужими детьми, и еще публичные женщины. В то время Лев Николаевич еще не рассматривал проституцию как посягательство на человеческое достоинство. Тот, кто через несколько лет будет протестовать в «Воскресении» против низости продажной любви, в 1870 году без обиняков пишет Страхову, что «б…» необходимы для сохранения семей. Без них в больших городах, где много одиноких людей, множество жен и девушек окажутся обесчещенными. Без проституток большинство мужей вскоре будут не в состоянии выносить своих жен. «Эти несчастные всегда были и есть, и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся Христос, объявив прощение одной из них». Тем не менее, перечитав письмо, Толстой счел подобную позицию рискованной и решил его не отправлять.
В то время, как он предавался этим размышлениям о роли супруги, его собственная с радостью наблюдала в нем пробуждение вдохновения и отмечала в дневнике 9 декабря 1870 года: «Сегодня в первый раз начал писать, мне кажется серьезно. Не могу выразить, что делалось у него в голове все время его бездействия… Все это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестно его праздности не только передо мной, но и перед людьми и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался…»
Тихонько подходя на цыпочках к двери его кабинета, Соня, как манны небесной, ждала только что вышедших из-под пера страниц, которые он дал бы ей для переписывания. Сгорала от желания быть полезной мужу в работе над новым романом, но не осмеливалась вмешиваться. Однако дни шли, ничего не появлялось, терпение ее было на пределе. Вдруг, вместо того, чтобы передать жене первые главы романа, Толстой объявил, что собирается изучать греческий. Соня решила, что это неудачная шутка, но он был непреклонен. По его просьбе из Москвы вскоре приехал семинарист, и ученик с такой прытью взялся за грамматику и словари, составляя списки слов, читая великих греков, что, несмотря на головные боли, за несколько недель превзошел учителя. Он глотал Ксенофонта и Гомера, открывал для себя Платона и говорил, что от оригиналов, как от родниковой воды, ломит зубы, что, как родники, они наполнены солнцем, но и пылью, наслоениями, которые делают их еще более свежими, в то время как переведенные те же страницы имеют привкус кипяченой или дистиллированной воды. По ночам, во сне, Толстой иногда говорил по-гречески, представлял себя жителем Афин, утопая в снегах Ясной Поляны, мечтал о солнце и белоснежном мраморе. Он эллинизируется не по дням, а по часам, говорила Соня, разрываясь между восхищением и беспокойством, замечала с досадой: «Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот… Успехи его по греческому языку, как кажется по всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими». [433]Сам он чувствовал, что возрождается благодаря курсу античной мудрости, и делится с Фетом в письме от 1–6 января: «Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал… в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословно, вроде „Войны“, я больше никогда не стану». И провозглашает перед ошеломленной Соней, что писать – просто, трудно – не писать. По ее словам, «мечтает… о произведении столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство». [434]Был сделан даже небольшой набросок будущего произведения по-гречески. Возможно, пройдет несколько месяцев учебы и он сумеет составить конкуренцию профессору Львову из Московского университета, заставив того признать, что совершил в переводах ошибки? Но огромный труд в таком невероятном темпе не мог не привести к чудовищной усталости – настроение Толстого пожинало плоды его любви к греческому. Соня была снова беременна, а он переживал приступы беспричинной тоски. Она с бóльшим нетерпением ждала его нового произведения, чем он – очередного их ребенка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: