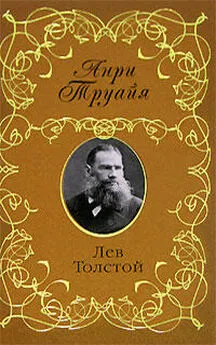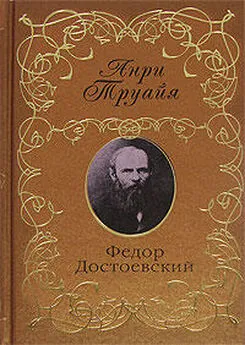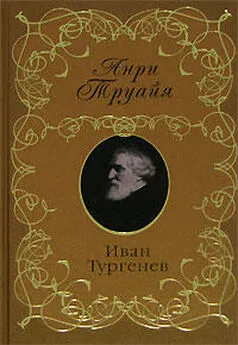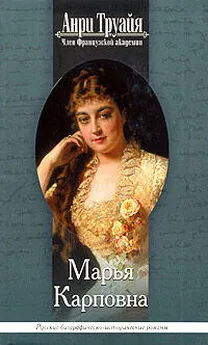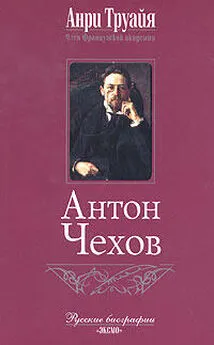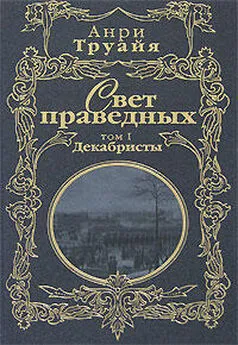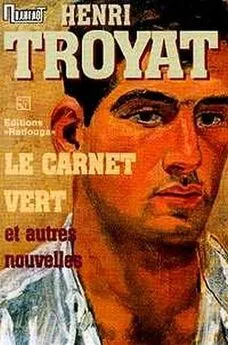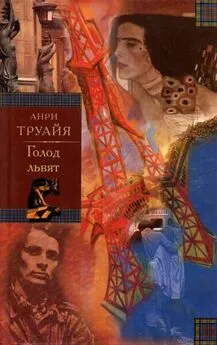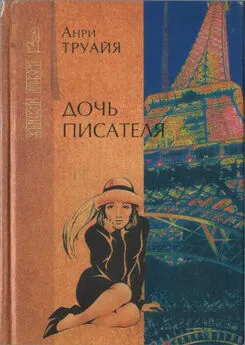Анри Труайя - Лев Толстой
- Название:Лев Толстой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0b7eb99e-c752-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-23274-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Труайя - Лев Толстой краткое содержание
Духовное наследие Л.Н.Толстого – великого русского писателя, художника, мыслителя – воспринимается неоднозначно. Для одних он – еретик, восставший на основы православия, для других – философ и гуманист, опередивший свое время на несколько столетий, для третьих – «лавка древностей», «музей прошлого». Ярлыков навешано на Толстого много, но ясно и другое – он продолжает волновать умы и сердца многих людей разных возрастов и разных национальностей. Его философия и литературное наследие являются бесценным достоянием всего человечества. Анри Труайя предлагает читателям составить собственное мнение о личности и творчестве этого величайшего деятеля русской культуры XIX–XX столетия.
Лев Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь он ясно видел, что ему делать: отталкиваясь от евангельских текстов, отделить истинное в религии от ложного. Говорил Соне, что наконец все объяснится и, если поможет Бог, напишет что-то очень важное. Но она беспокоилась, видя его склоненным над трудами, посвященными религии: «…Левочка же теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать». За столом гневно нападал на Церковь, огорчая жену, события повседневной жизни становились предлогом для порицаний или притч. По воспоминаниям сына Ильи, Лев Николаевич часто спорил с матерью, превращаясь из веселого главы семейства в сурового обличающего пророка. Все это напоминало спектакль: среди всеобщей радости, болтовни, игр появлялся отец и одним взглядом портил все – уходило веселье, все чувствовали себя виноватыми, было бы лучше, если бы он не приходил. Самое мучительное, что Толстой понимал это, но скрывать своих чувств не желал.
Будучи проездом в Петербурге в январе 1880 года, Лев Николаевич заехал к Александрин, чтобы объяснить ей, что чувствует. Пожилая дама ужаснулась, увидев этого сердитого прорицателя с горящими глазами и покрасневшим лицом, критикующего пап, предавших завет Христа, и призывающего ее порвать с аристократическим кругом и благочестием, где она так долго пребывала в полнейшей слепоте. Та возмущалась, негодовала, он повышал голос. Дискуссия превратилась в спор, неслыханные слова срывались с уст племянника. В пароксизме ярости он бросился вон, хлопнув дверью, вернулся к себе и не спал всю ночь. На другой день уехал в Ясную, не повидавшись со своей дорогой тетушкой, но оставив для нее письмо: «Пожалуйста, простите меня, если я вас оскорбил, но если я сделал вам больно, то за это не прошу прощенья. Нельзя не чувствовать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторваться от лжи привычной и покойной. Я знаю, что требую от вас почти невозможного – признания того прямого смысла учения, который отрицает всю ту среду, в которой вы прожили жизнь и положили все свое сердце, но не могу говорить с вами не вовсю , как с другими, мне кажется, что у вас есть истинная любовь к Богу, к добру и что не можете не понять, где он. За мою раздражительность, грубость, низменность простите и прощайте, старый милый друг, до следующего письма и свиданья, если даст Бог». [486]
В тот же день она ответила, что его внезапное исчезновение возмутило, оскорбило и огорчило ее до глубины души, что видит в этом поступке жестокость, враждебность и какую-то даже жажду мести. Такая выходка, по ее мнению, неприятна со стороны молодежи, а в их лета не протянуть руки при прощании, когда каждое может оказаться последним, непростительно, и простить ей будет трудно.
Почти через неделю, успокоившись, Александрин пишет Толстому, что хочет забыть об их ссоре, но никогда не сменит убеждений, так как слишком счастлива тем, что дает ей православная Церковь. Нельзя вынуть хотя бы камень из этого священного здания, не нарушив при этом гармонии целого.
Тронутый дружеским тоном послания, Лев Николаевич пытается уточнить, что он имел в виду:
«…можно верить только в то, чего понять мы не можем, но чего и опровергнуть мы не можем. Но верить в то, что мне представляется ложью, – нельзя. И мало того, уверять себя, что я верю в то, что не могу верить, во что мне не нужно верить, для того чтобы понять свою душу и Бога, и отношение моей души к Богу, уверять себя в этом есть действие самое противное истинной вере».
И продолжает, утверждая, что хотел уважать веру Александрин и мужиков, если бы она, эта вера, позволила им приблизиться к познанию Бога. Но боится, что его дорогой друг смотрит на Бога сквозь очки, предложенные ей Церковью, и они вовсе не соответствуют ее взглядам. Поэтому сожалеет, о том, что сказал все, что сказал… Смысл его слов был следующий: «…посмотрите, крепок ли тот лед, по которому вы ходите; не попробовать ли вам пробить его? Если проломится, то лучше идти материком. А держит вас, и прекрасно, мы сойдемся все в одно же».
Такой твердой почвой было для него Евангелие: «Я живу, и мы все живем, как скоты, и так же издохнем. Для того, чтобы спастись от этого ужасного положения, нам дано Христом спасение.
Кто такой Христос? Бог или человек? – Он то, что Он говорит. Он говорит, что Он сын Божий, Он говорит, что Он сын человеческий, Он говорит: Я то, что говорю вам. Я путь и истина . Вот Он это самое, что Он говорит о себе. А как только хотели все это свести в одно и сказали: Он Бог, 2-е лицо Троицы, – то вышло кощунство, ложь и глупость. Если бы Он это был, Он бы сумел сказать. Он дал нам спасение. Чем? Тем, что научил нас дать нашей жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Научил Он нас этому всем учением, жизнью и смертью. Чтобы спастись, надо следовать этому учению. Учение вы знаете. Оно не в одной Нагорной проповеди, а во всем Евангелии. Для меня главный смысл учения тот, что, чтобы спастись, надо каждый час и день своей жизни помнить о Боге, о душе и потому любовь к ближнему ставить выше скотской жизни… И потому-то это Божеская истина, что она так проста, что проще ее ничего быть не может, и вместе с тем так важна и велика и для блага каждого человека, и всех людей вместе, что большее ее ничего быть не может». [487]
Не довольствуясь проповедью своей новой веры в письмах к тетушке-бабушке, Толстой решает сделать ее достоянием России и мира, рассказав о ней в серии книг: сначала «Исповедь», начатая в 1879 году, потом «Критика догматического богословия» (1880), «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1882) и, наконец, «В чем моя вера?» (1883). В этих трудах он пытается найти истоки своей муки и выход своим размышлениям. «Левочка все работает, как он выражается: но – увы – он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как Церковь несообразна с учением Евангелия, – делится с сестрой Соня. – Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтобы прошло это, как болезнь».
Но «болезнь» протекала с осложнениями. Занимаясь ею день и ночь, пациент только ухудшал свое состояние. «Исповедь» была рассказом о внутренних спорах, которые стали причиной его отдаления от церкви. Стремление к абсолютной искренности заслуживало всяческого уважения, но результатом стало ощущение, будто прилюдно разделся и сам себя выпорол. Одновременно некоторая словесная избыточность заставляла сомневаться в искренности намерений автора, которого, казалось, пьянит самокритика на публику. Закрывая книгу, читатель задумывался, не была ли эта проповедь христианского смирения на деле демонстрацией гордыни, ведь предложить себя в качестве примера, которому не следует подражать, это тоже способ привлечь внимание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: