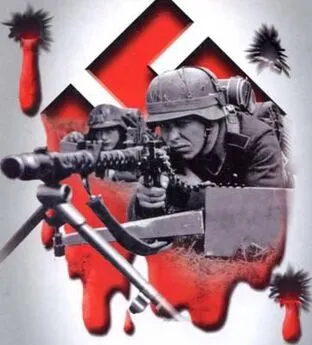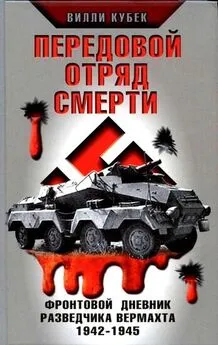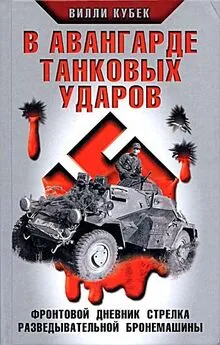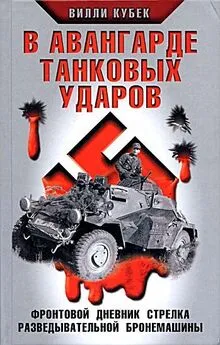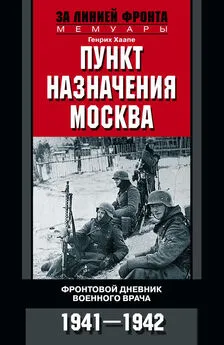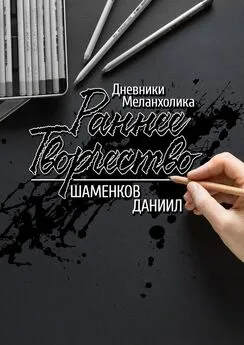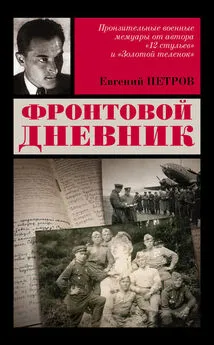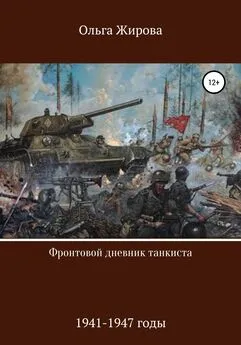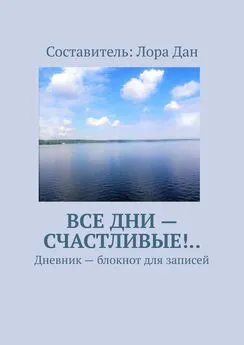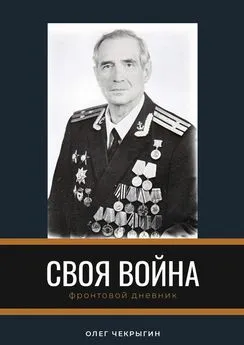Даниил Фибих - Фронтовые дневники 1942–1943 гг
- Название:Фронтовые дневники 1942–1943 гг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый Мир
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Даниил Фибих - Фронтовые дневники 1942–1943 гг краткое содержание
Писатель-публицист Даниил Владимирович Фибих (Лучанинов; 1899 – 1975) детство и юность провел в Нижнем Ломове, сотрудничал в первых пензенских советских газетах, потом стал корреспондентом «Известий». Часто публиковался и в других центральных изданиях. Он автор повестей «Святыни», «В снегах Подмосковья», романов «Угар», «Родная земля», исторического романа «Судьба генерала Джона Турчина», пьес «Поворот», «Звонкий ключ», «Снега Финляндии».
В самом начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, героически сражался с врагом. Работая корреспондентом в армейской газете, в самые тяжелые 1941 – 1943 годы часто оказывался на передовой линии Северо-Западного фронта.
В июне 1943 года за острые, критические высказывания в своем личном дневнике Д. В. Фибих по доносу был арестован и осужден на 10 лет «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Реабилитирован и восстановлен в правах только к концу 50-х годов.
Уже в наше время, когда гриф секретности был снят с ряда дел репрессированных, я как внучка писателя ознакомилась с материалами нескольких тетрадей-дневников, хранившихся все это время в архивных фондах ФСБ. Отрывки из этих рукописей, сделанных как наброски будущих очерков и новелл, а также записок личного характера публикуются ниже. Впервые фрагменты дневниковых записок Д. В. Фибиха были опубликованы в газете «История» издательского дома «Первое сентября» (2009, № 8).
М. Ю. Дремач («Новый мир», №5, 2010)
Фронтовые дневники 1942–1943 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На машине я через два часа был бы дома. Но я отказался от соблазнительной перспективы и решил добираться своими силами. Решил по пути заглянуть в наградной отдел – выяснить о медали, в финчасть – относительно зарплаты за два месяца – и, возможно, к Горохову.
Как назло, погода резко переменилась. Серое небо, холодный ветер, мелкий осенний дождь. Под этим дождем, в густой черноземной грязи, прошагал я километров шесть. Дойдя до деревни, где был штаб полка, убедился, что мундштук исчез. Никто его здесь не видел. Итак, напрасно я мучился. Ничего не поделаешь, нужно было продолжать путь. За деревней, на дороге, стояло с полдюжины застрявших машин. Шофера возились в грязи, я имел случай убедиться, что курские дороги не уступают северо-западным. Забравшись в кабину, терпеливо просидел несколько часов, дожидаясь, пока машины двинутся наконец. К вечеру выяснилось, что ехать нет возможности – авось завтра погода улучшится и дорога немного подсохнет. Хорошо, что здесь деревни расположены одна за другой.
Я зашел в ближайшую хату и переночевал там. Дождь лил не переставая весь день и ночь. Назавтра погода прояснилась, выглянуло солнце. Старики хозяева угостили меня блинами с вареньем. Семилетняя курносенькая Светлана расспрашивала о Москве, «где живет Сталин», и была потрясена моим рассказом о метро. Москва, Кремль и Сталин сливались в ее представлении в одно целое. Она из Воронежа, отец рабочий, на фронте, мать погибла, наскочив на мину. Старики колхозники взяли сиротку на воспитание и ласково относятся к ней, славные люди. Отец не знает, где его дочь, дочь – где отец. Сколько таких растерявших друг друга семей будет после войны!
Машины все еще стояли на черном большаке, перед тонким бревенчатым мостком. Я решил не дожидаться, пока они выкарабкаются из грязи, и двинулся дальше пешком. Еще восемь километров по грязи. В Суковкине мне повезло: на Касторную как раз отходили два паровоза. Я уселся в прицепленный сзади вагон и через полчаса сошел в Ново-Касторной. Еще два километра до сахарного завода, оттуда двенадцать до Семеновки, до Воложанчика то же.
У коменданта гарнизона я узнал, что финчасть нашей армии находится километрах в 6 – 8 отсюда, притом совсем в другой стороне. Итак, 12 – 16 километров туда и обратно. Нет, у меня не было ни времени, ни сил совершать сейчас такое путешествие, тем более что надежды на попутную машину были плохи. Нечего делать, опять месил грязь, фронтовой бродяга.
Километра три удалось проехать на подводе. Тут снова заволокло небо, начал стегать косой, с ветром и градом, леденящий дождь. Добрались до совхоза, весь мокрый забежал я в ближайшую хатку и переждал, пока проглянет солнце, стихнет ливень. Хозяйка рассказывала о немцах, падчерица ее толкла в деревянной дикарской ступе просо, пришедшие мальчишки в серых немецких мундирах с увлечением вспоминали бой, который видели. Разбитной мальчуган с ямками на щеках, смеясь, говорил:
– Едут немцы на подводе, нахлестывают почем зря. «Рус солдат – ком, германский солдат – трай-трай-трай». Так и говорили. Будь автомат или пулемет – всех бы тут скосил…
Последние восемь километров до Семеновки удалось сделать на машине, идущей как раз в политотдел.
Когда я вошел к Губареву, Москвитин шутя скомандовал:
– Встать!
Мне сообщили, что получили приказ о награждении и даже медаль. Тут же выяснил, что в Семеновке, под боком, организовано отделение финчасти.
Все дивизии, вошедшие было в нашу армию, уходят от нас. 53-й дают новые, укомплектованные части.
Сегодня, в День печати, получил медаль «За боевые заслуги». После обеда мы построились перед каменной школой – ныне там наша типография. Я, как всегда, правофланговый. Военачальник прочел перед строем выписку из приказа о награждении меня и Бахшиева. Нам вручили по коробочке с медалями. Комедия прошла не без торжественности.
По случаю Дня печати повар угощал нас праздничным обедом: суп из гороховых концентратов, селедка с картофельным пюре и тушеная капуста с мясом. Лихорадочные поиски самогона ни к чему не привели…
7 мая. Получил извещение, что сборничек, который должен был выпустить СЗФ, – забракован ГлавПУРом. Мотивировка – газетность, поверхностность и отсутствие бумаги. Основное, конечно, – последнее.
Сюда были включены три очерка: о Зите Ганиевой, о Хандогине и о Соне Кулешовой.
Поверхностность?.. Можно подумать, фронтовые издательства печатают только Чехова и Мопассана. Сколько бездарной белиберды было выпущено в 41-м и 42-м годах. Очевидно, теперь спохватились. Мне везет: всегда попадаю не в точку! Оргвыводы: то, что я написал и напечатал за эти два года, – утильсырье. Кое-что годно для перепечатки. Но нужно писать заново и по-настоящему.
Из случайно попавших сюда номеров «Литературы и искусства» узнал о творческом совещании в ССП. Обычное словоблудие. Собрались окопавшиеся в тылу литературные охотники за пайками и всласть потрепались. О нас, фронтовых чернорабочих, вскользь упомянул один Эренбург.
И все же нечем хвастать нашей литературе. И все же настоящие книги о войне будут написаны потом. То, что сейчас появилось, – «Радуга» Василевской, «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Фронт» Корнейчука и др., – все это полуфабрикат, сырое. Но иначе и не может быть!
8 мая. Тунис и Безерта взяты союзниками. С Северной Африкой покончено. На очереди Италия. Кажется, второй фронт становится реальной вещью.
Все еще бездельничаем, хотя газета и выходит. Прежние дивизии ушли, новые еще не пришли. Фронт от нас в двухстах километрах.
И все-таки летом здесь будут страшные битвы. Может быть, судьба войны решится именно в этих степях.
15 мая. Нота Молотова о массовом насильственном уводе наших людей в немецкое рабство.
Меня, в числе других, послали за «откликами» в инженерный батальон – километров за семь. Вместо того я отправился в деревушку в километре отсюда – в заградотряд. (Не все ли равно? Да к тому же практика меня убедила, что такой материал далеко не всегда идет.)
Подразделения находились в поле, на занятиях. Я поговорил с командиром – он лежал на пригорке. Вскоре подошли два вызванных им взвода. Все с автоматами, большинство в орденах и медалях. Прекрасная выправка. Многие из них были под Сталинградом. Митинг. Командир (орден Красного Знамени) прочел вслух принесенную мной газету с текстом ноты. Слушали равнодушно, скучно, да и чтец, кстати сказать, был не Яхонтов. Потом выступление замполита. Казенные, штампованные, серые слова. Как не умеем мы говорить! Какая низкая словесная культура! 25 лет Россия говорит с трибуны – и все еще не вышла за пределы месткома. Сплошной всероссийский местком. Ни одного оратора не появилось за эти четверть века, кроме ныне покойных Луначарского, Троцкого и Кирова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: