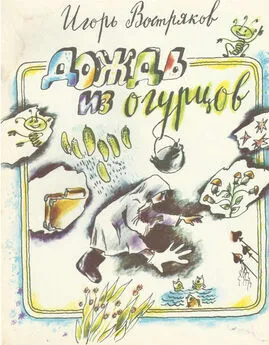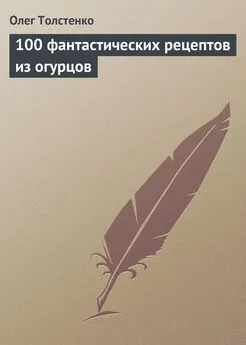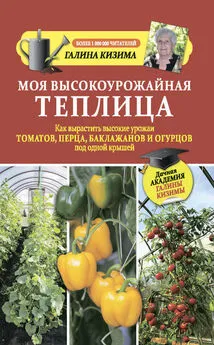Павел Огурцов - Конспект
- Название:Конспект
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Права людини
- Год:2010
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-8919-86-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Огурцов - Конспект краткое содержание
«Конспект» – автобиографический роман, написанный архитектором Павлом Андреевичем Огурцовым (1913–1992). Основные события романа разворачиваются в Харькове 1920-х – 1941 гг. и Запорожье 1944 – 1945 гг. и подаются через призму восприятия человека с нелегкой судьбой, выходца из среды старой русской интеллигенции. Предлагая вниманию читателей весьма увлекательный сюжет (историю формирования личности на фоне эпохи), автор очень точно воссоздает общую атмосферу и умонастроения того сложного и тяжелого времени. В романе представлено много бытовых и исторических подробностей, которые, скорее всего, неизвестны подавляющему большинству наших современников. Эта книга наверняка вызовет интерес у тех, кому небезразлична история нашей страны и кто хотел бы больше знать о недавнем прошлом Харькова и Запорожья. Кроме того, произведение П.А. Огурцова обладает несомненными литературными достоинствами, в чем мы и предлагаем вам, дорогие читатели, убедиться.
Конспект - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Осесть в Макеевке, со временем жениться, и будь что будет? Но я помню разговор в Челябинске с Василием Андреевичем, его горячий совет — уехать, пока не засосала обстановка, и даже слышу его голос, когда он говорил: «Поступите в институт, хотя бы вечерний». В ХИСИ на архитектурном факультете, кажется, есть вечернее отделение. Живи я сейчас в Харькове — постарался бы туда попасть. Но и отец уехал из Харькова, значит, прописаться там безнадежно. Так что же — «Не тратьте, куме, сили, iдiть на дно»? И пусть засасывает обстановка?
А всегда ли она засасывает? Засасывает, когда ей поддаешься. А я не буду поддаваться, не буду, и все!.. И хочется думать, что все это временно, временно, хотя оснований так считать по-прежнему нет никаких.
Слесари и я едем на шахту за город. Утро. Отворачиваем лица от солнечных лучей, светящих в глаза, но лучи нежаркие, значит — осень или весна, осень 35-го или весна 36-го. В камере — мы и один подсобный рабочий, остальные потолкались и ушли. Возимся с мотором — то ли ремонтируем, то ли устанавливаем. Вдруг — грохот. Подсобный рабочий бросается к двери, закрывает ее и кричит: «Не выходить!»
Память избирательна — это для меня бесспорно, но что в ней задерживается, а что нет — закономерности установить не могу. Распространено мнение, что помнится хорошее, а плохое забывается, но почему же всю жизнь помню пережитое из-за драгоценностей Торонько, ужасную зиму и весну 33-го года, исключение из института и другие, более поздние события, куда пострашнее обвала в шахте, а что происходило после обвала — из памяти вон почти полностью? Сначала мы стояли, молчали и смотрели друг на друга. Повторился грохот, и подсобный рабочий воскликнул: «Ух, ты, черт!» Опять стояли, молчали и смотрели друг на друга.
— Что ж так стоять? — сказал один из слесарей. — Лучше будем работать.
Верно, — сказал другой. — А то, не дай Бог, станет мотор – тогда нам здесь крышка. Работали дружно вчетвером, часто останавливаясь и прислушиваясь, но ничего, кроме монотонного гула работающего мотора, слышно не было.
— А что вы слушаете? — спросил подсобный. — Если еще обвал — и так услышим, а если разборку — так еще рано.
— А сколько нам здесь сидеть, как считаешь? — спросил один из слесарей.
— Поди знай сколько обрушилось. Но раньше завтрашнего дня не откопают.
— Придется поголодать.
— Ну, и придется. Радуйся, что обвал в камере застал. А каково тем, кто, не дай Бог, под самый обвал угодил?.. Вот в 30-м году на шахте...
— Ладно, потом расскажешь. Давайте работать.
Пустили мотор, остановили, и вроде бы стало легче: есть резерв. Пошли рассказы о происшествиях в шахтах — пережитых и услышанных.
— Ну, хватит страху нагонять, — сказал один из слесарей. — Давайте о чем-нибудь повеселее.
Стали рассказывать будто бы и забавные случаи, что-то и я рассказал, но никто не смеялся, и мы замолчали. Умом я понимал, что все кончится благополучно и нет причин для страха, но постепенно мною овладевало странное состояние, которое до этого не приходилось испытывать, — что-то вроде оцепенения. После, вспоминая это состояние, я сравнивал его с оцепенением кролика перед пастью удава. Почувствовал физическую слабость и лег на пол.
— Вот, правильно, Григорьич, — сказал слесарь и лег рядом. Улеглись и другие. Сон не сон, а какое-то полузабытье. Кто-то поднимается, останавливает мотор, мы все, как по команде, садимся и напряженно вслушиваемся, но не слышно ничего. Снова ложимся. Так много раз. Часов у нас нет.
— Мертвая тишина, — говорю я после очередной остановки мотора.
— Как в могиле, — добавляет один из слесарей.
— Вы это бросьте! — обрывает нас подсобный рабочий.
Очнулся и удивился: держимся за руки. Последнее, что я помню: рядом сидит слесарь, открыта дверь, слышно как где-то с равными промежутками звонко падают капли воды и с другим ритмом, но глуше, капают другие капли. Приближается звук шагов, входят слесарь и подсобный рабочий, запускают мотор и, не закрывая дверь, устраиваются на полу и что-то говорят. Что они сказали я не разобрал, но ни о чем не спрашиваю: понятно по тону — ничего хорошего. А потом, что называется, — отшибло память. Солнечный свет слепит, даже на белые халаты больно смотреть. Я закрываю глаза и останавливаюсь. Кто-то, обнимая за плечи, пытается взять у меня ящик с приборами, и я слышу голос Каслинского:
— Отдайте, отдайте ящик.
— Не отдает, — слышу чей-то голос. — Мы, когда их выводили, так и не смогли забрать у него ящик.
Когда глаза привыкли, я обратил внимание на то, что многие на меня оглядываются, и спросил:
— Что, я такой грязный?
— Эх, Григорьич! — сказал слесарь. — Эту грязь не отмоешь. Достанем зеркальце — сам увидишь.
В зеркальце я увидел белые виски и над левой бровью — широкую полуседую прядь.
Наверное, был медицинский осмотр и нам дали больничные листки — день, два, а может быть и три я не выходил на работу, а чем заполнил эти дни — не помню. Только пришел на работу — заходит в лабораторию Каслинский.
— Ну, что, Аня, отпустим Петра Григорьевича на несколько дней в Харьков?
— Правильно, Виктор Петрович, надо отпустить — пусть чуток дома побудят.
— Да не охота мне дома седину показывать.
— Но не будете же вы краситься! — говорит Каслинский. — Все равно увидят. Поезжайте.
— Подать заявление?
— Не надо, так езжайте. Только не надолго, дней на пять-шесть, больше не надо. Нам с Аней без вас трудно.
10.
Дома застал отца. Седину не скроешь... Подробности не расспрашивали, не охали, не ахали, во всяком случае — при мне.
Отец начал работать в Крыму в конце зимы или начале весны 35-го года, отпуск мы проводили вместе в Харькове зимой с 35-го по 36-й год, и, когда за раздвинутым столом собрались наши близкие, я вздумал показывать «как пьют у нас в Донбассе», мне стало плохо, и отец выходил со мной во двор. Между прочим, в отпуск мы с Птицоидой два раза ездили к родителям Пексы, но оба раза дома никого не застали. Значит, не мог быть отец в Харькове ни осенью 35-го, ни весной 36-го. Стало быть, в памяти — путаница. Как бы там ни было, но отец в Харькове был, а мы с ним были у Кучерова, и Владимир Степанович, глядя на мою седину и такой же, как у Хрисанфа, тик, сказал, что мне нужен продолжительный отдых, чтобы я не спешил уезжать — он даст мне больничный, он сказал — хороший больничный. Отец его поддержал, и они меня уговорили.
— Напишу-ка я тебе — тиф, — сказал Владимир Степанович, а ты подстригись под машинку.
— Ну, Володя, это ты, кажется, хватил! — воскликнул отец.
— Ничего я не хватил. Ему нужно пожить в другой обстановке и подольше, отвлечься от своих шахт. В старое время я бы тебе вот что сказал, — Кучеров повернулся ко мне: — Прокатись-ка ты, брат, за границу, развейся. Это лучше, чем бром пить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: