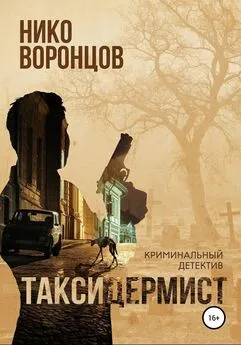Вячеслав Удовик - Воронцов
- Название:Воронцов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02728-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Удовик - Воронцов краткое содержание
Предлагаемое вниманию читателей издание представляет собой жизнеописание генерал-фельдмаршала, светлейшего князя, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, наместника на Кавказе М. С. Воронцова (1782–1856). Личность этого человека вызывает самые противоречивые оценки историков и исследователей-пушкинистов. Первые, признавая в нем талант полководца и мудрого правителя, укоряют его за приверженность монархии и называют угодливым царедворцем. Вторые (по крайней мере большинство из них) игнорируют его заслуги перед Отечеством и видят в нем только врага великого поэта. Рассказывая о жизненном пути Воронцова, о его ратных подвигах и деяниях во славу России, автор книги опровергает распространенное и искаженное представление о нем как о расчетливом вельможе и гонителе Пушкина.
В Приложении приводится ценнейший исторический документ — кавказские письма М. С. Воронцова к А. П. Ермолову.
Воронцов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
16 июля отряд прибыл в Шахмал-Берды. Здесь была хорошая питьевая вода и поля, засеянные пшеницей и кукурузой, что дало пищу людям и лошадям. Но вскоре отряд окружили полчища горцев. Отбиться своими силами было невозможно, и М. С. Воронцов отправил лазутчиков к генералу Р. К. Фрейтагу, чтобы тот поспешил на выручку.
Р. К. Фрейтаг с 7,5 батальонов, тремя сотнями казаков и 18 орудиями двинулся навстречу Воронцову. 19 июля после жестокого боя с горцами оба отряда соединились, а 20 июля они пробились к Герзель-аулу.
Своеобразный отчет о походе на Дарго дал Михаил Семенович в письме к А. П. Ермолову. «Штурмуя беспрестанно позиции и овраги, мы не только не оставили ни одного раненого, но ни одного колеса, ни одной вещи, ни одного ружья». Результатов больших нет, «но мы повиновались воле Государя и общему мнению в России, что не показаться сего года в горах было бы стыдно». И делает важный вывод: «Мы пошли очертя голову, сделали все, что возможно, и вышли благополучно и, смею опять сказать, не без славы. Теперь уже настанет время для войны более систематической и которая хотя тихо, но вернее должна в свое время улучшить положение здешних дел»5.
В обзоре военных действий на Кавказе в 1845 году, составленном Генеральным штабом Отдельного Кавказского корпуса, говорилось, что «появление войск в крае, где еще никогда не была нога русских, занятие нами Гумбета, трехнедельное пребывание в Андии, славное взятие с боя и истребления Дарго и, наконец, проследование отряда по пути, который доселе был неизвестен и едва ли считался проходимым — все это достаточно убеждает в том, что для Русских войск нет ничего невозможного»6.
Русской груди и русским штыкам, заявил М. С. Воронцов, никто противостоять не может. Вместе с тем эти успехи достались слишком дорогой ценой. Русские войска лишились 3 генералов, 141 офицера и 2831 нижнего чина.
Николай I направил М. С. Воронцову рескрипт: «Вы вполне оправдали Мои ожидания, проникнув в недра гор Дагестанских, считавшихся доселе неприступными». Завершается рескрипт словами: «В справедливом сознании, как прежних, так и теперешних знаменитых заслуг ваших, Я возвел вас в Княжеское достоинство с нисходящим потомством»7.
Один из мемуаристов так откликнулся на решение императора возвести командующего в княжеское достоинство: «Воронцову дали за это титул князя, только не Даргинского, хотя взять Дарго было несомненно труднее, чем Эривань Паскевичу»8. За взятие Эривани, как известно, Паскевичу был пожалован титул графа Эриванского. А М. С. Воронцов так и остался просто Воронцовым, хотя военными подвигами он превосходил, например, и Дибича-Забалканского, и Муравьева-Карского.
М. С. Воронцову пришлось услышать немало упреков за то, как прошла Даргинская операция. В частности, его обвиняли в том, что он, командующий, напрасно подвергал себя излишней опасности. Михаил Семенович ответил, что не искал для себя опасности. Это, мол, было бы несвойственно ни его летам, ни занимаемой им должности. Опасным был весь Даргинский поход. К тому же офицерам и солдатам, пишет он, «приятно и ободрительно, когда главный начальник не слишком далеко от них находится»9.
После короткого отдыха М. С. Воронцов отправился в Крым. В сентябре он встретился в Севастополе с Николаем I. Михаил Семенович сумел убедить императора в том, что Шамиля нельзя победить в решающем сражении и что нужно вернуться к осадной стратегии А. П. Ермолова. Несмотря на разочарование, император вынужден бьш предоставить М. С. Воронцову право действовать так, как он найдет необходимым.
Да, ожидание Николая Павловича не оправдалось. М. С. Воронцов не сумел переломить ход войны. Но кем он, император, мог его заменить? Подходящих кандидатур не было. Оставалось одно — набраться терпения и надеяться, что новая стратегия приведет в конечном итоге к победе над Шамилем.
После возвращения на Кавказ М. С. Воронцов резко меняет тактику войны с горцами. Вместо штыка он ставит на первое место топор и лопату. Еще А. П. Ермолов приказывал расширять просеки в лесах Чечни, чтобы русским отрядам легче было добираться в нужное место. У Воронцова имелась возможность послать на вырубку леса значительно больше солдат. Прорубались широкие просеки, прокладывались новые дороги, возводились крепости. А поэтому результаты новой тактики сказались очень быстро.
Командующий, конечно, не отказался от военных операций против Шамиля. Но теперь это были планомерные действия, направленные в первую очередь против тех мест и укрепленных аулов, где находились большие силы горцев. Благодаря новой стратегии территория, на которой Шамиль чувствовал себя полным хозяином, все больше сокращалась.
На Кавказе М. С. Воронцову пришлось вести еще одну войну — со злоупотреблениями в войсках.
В Ставрополе находились резервные маршевые батальоны. Они предназначались для пополнения убыли в кавказских полках. «Беспорядок в этих батальонах был ужасающий, — пишет В. А. Бельгард. — Впоследствии, когда приехал уже князь Воронцов, было произведено строгое следствие, и не только батальонные командиры, но и сам начальник этих маршевых батальонов, генерал Тришатный, были отданы под суд. Сначала же никто не рисковал притронуться к этому делу»10.
В окрестностях Тифлиса располагался запасной Кавказский корпус, в котором обучались рекруты. В этом корпусе также процветали воровство и беззаконие. «Много врагов нажил себе старик Воронцов чрез то, что пресек систематическое воровство, можно даже сказать, душегубство в этом корпусе»11, — читаем в воспоминаниях Э. С. Андреевского.
В то же время М. С. Воронцов признавал, что «по военной части генералов и полковников весьма много хороших, и войска вообще в самом лучшем духе и расположении»12.
Как и прежде, М. С. Воронцов мало обращал внимания на форму, на муштру. Главными для него было следование законам чести и бесстрашие на поле боя. «На Кавказе форма вообще мало значила, — пишет Б. М. Колюбакин, — готовились не к смотрам, а к смертному бою и потому духовная сторона стояла на первом месте»13.
Воронцов всегда следил за питанием и обмундированием солдат и не допускал наказания их не по вине, а по своеволию командиров. «Никто лучше Воронцова не знал русского солдата, — пишет В. А. Соллогуб, — никто выше не ценил его беззаветной храбрости, терпеливой выносливости, веры в провидение и смирения». И далее: «Мне много раз случалось уже и говорить, и писать, что если есть в мире что-нибудь выше русского солдата, это — солдат-кавказец: как он весело идет на бой, отважно дерется, просто умирает! Но при Воронцове, кроме этого всегда необычайного духа в русском войске, царила также, если можно так выразиться, всеобщая семейственность»14.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: