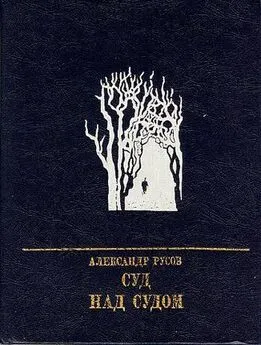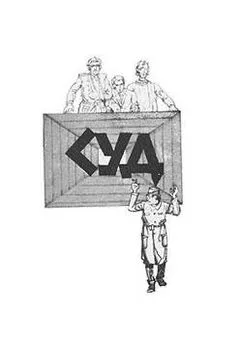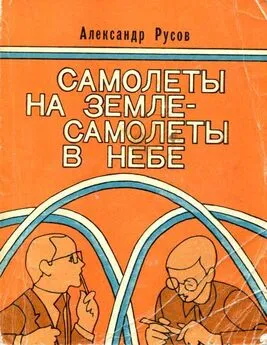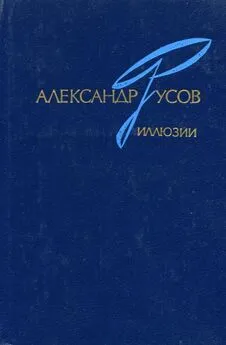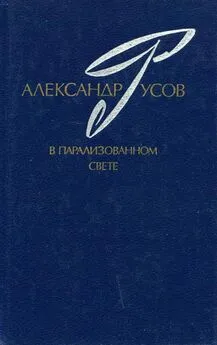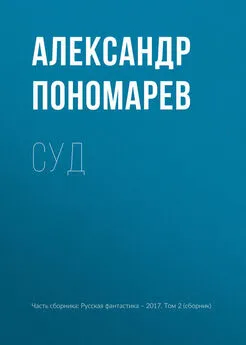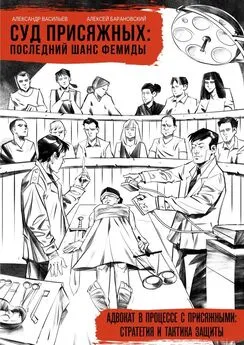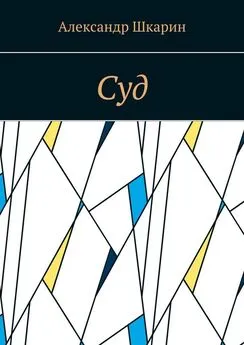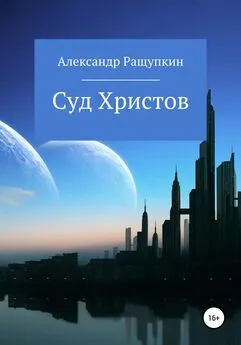Александр Русов - Суд над судом: Повесть о Богдане Кнунянце
- Название:Суд над судом: Повесть о Богдане Кнунянце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Русов - Суд над судом: Повесть о Богдане Кнунянце краткое содержание
В 1977 году вышли первые книги Александра Русова: сборник повестей и рассказов «Самолеты на земле — самолеты в небе», а также роман «Три яблока», являющийся первой частью дилогии о жизни и революционной деятельности семьи Кнунянцев. Затем были опубликованы еще две книги прозы: «Города-спутники» и «Фата-моргана».
Книга «Суд над судом» вышла в серии «Пламенные революционеры» в 1980 году, получила положительные отзывы читателей и критики, была переведена на армянский язык. Выходит вторым изданием. Она посвящена Богдану Кнунянцу (1878–1911), революционеру, ученому, публицисту. Ее действие переносит читателей из химической лаборатории конца девяностых годов прошлого века в современную лабораторию, из Нагорного Карабаха — в Баку, Тифлис, Москву, Петербург, Лондон, Женеву, из одиночной тюремной камеры — в трюм парохода, на котором бежит из ссылки двадцативосьмилетний герой, осужденный по делу первого Петербургского Совета рабочих депутатов.
Суд над судом: Повесть о Богдане Кнунянце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он не матрос мазутного флота. Он — крестьянин Тамбовской губернии. И — странная судьба. Именно оттого он и помер, что он — матрос и русский крестьянин. Помер вдали от своих, в далеком чуждом Баку, в грязной камере тюремной больницы, окруженный холодными, враждебными лицами. Только одно напоминало ему далекую родину. Праздничный пасхальный звон церковных колоколов. Ликование людей, что наступает праздник весны, праздник, так много говорящий сердцу русского крестьянина.
Да, он умер оттого, что он матрос. Как раз этой весной кончился срок контракта с каспийскими пароходовладельцами, власти ждали „волнений“, „забастовки“ и арестовали его в числе многих других товарищей.
Он умер оттого, что он — пролетарий из крестьян, которого судьба в поисках хлеба бросает в далекие уголки России. Чужой он был в нашем большом городе, чужим остался для него и в тюрьме, оторванный от тех, кто мог бы пещись о нем. Даже в тяжелые минуты болезни некому было на воле хлопотать, просить, кричать, что умирает, погибает человек.
Болел он недолго. В больнице пробыл недели две. Болезнь была такая, что с первого момента была ясна беспомощность тюремной больницы. Товарищи телеграммой просили у властей перевести его в городскую больницу. Но этого почти невозможно добиться „государственному преступнику“, все преступление которого в том, что он попал под подозрение охранки.
В больнице быстро наступила развязка. Его скоро не стало.
У двадцатипятилетнего молодца, еще полного жизни, тюрьма в течение двух месяцев высосала все силы».
В некрологе на смерть Богдана Кнунянца Степан Шаумян на вопрос, умер ли Агап Челогаев или его убили, отвечает: «Да, убили, дорогой товарищ, — так же, как и тебя».
Принимая участие в работе научного и литературно-художественных кружков в Баку, Богдан вынашивал догадку о некоем едином силовом поле, притягивающем его одновременно к столь разнородным, казалось бы, областям духовной жизни. Мечтал о великом синтезе науки, искусства, стихов и прозы, который когда-нибудь, быть может, удастся осуществить.
Кружки привлекали самую разношерстную публику. Клуб «Наука» посещал знакомый по Петербургу типографский наборщик Зенин. (Как полицейский осведомитель Зенин имел кличку «Усач».) А в литературно-художественном кружке активно сотрудничал приятель Зенина, рабочий-литейщик Мисак Саркисян. Разумеется, встречи имели характер общих дискуссий и потому скорее относились к общественно-политической сфере, чем к науке и искусству.
Это наименее освещенный историками период жизни Богдана Кнунянца. В нем содержится много неясностей. До сих пор, например, остается открытым вопрос, было ли опубликование Богданом статей в меньшевистских газетах сознательным актом, то есть проистекало ли оно из попытки примирения, подсказанной условиями жестокой реакции послереволюционных лет, или же автор статей не ведал ни о той «редактуре», которой подверглись последние его статьи, ни о том, в какие издания они попадут.
В бабушкином архиве сохранилась копия ее письма историку О. Г. Инджикяну, кандидатская диссертация которого была посвящена жизни и деятельности Богдана Кнунянца. Это письмо частично проясняет обстоятельства, сопутствующие появлению упомянутых публикаций.
«11.11.54 г.
Оганес Григорьевич, только что вернулась от Зеликсон-Бобровской и спешу сообщить Вам ее заключение по поводу Вашего реферата. Может, до 18-го числа успеете получить это письмо. От письменного отзыва она категорически отказалась, так как не видела Вашей работы.
Прежде всего, она считает, что в работе сделан неправильный крен в сторону литературных трудов Богдана. Из работы следует, что Богдан был чуть ли не одним из теоретиков партии. Это неверно. Он был пламенным революционером-большевиком, отдавшим всю свою жизнь революции. Что же касается его литературной деятельности, то он был лишь популяризатором политической литературы того времени. Если бы он был сильно политически подкован как марксист, — сказала она, — то, может, сумел бы преодолеть свой революционный темперамент и не совершить ряда ошибок по организационные вопросам. (Ее слова я передаю точно.)
Затем она находит, что об ошибках Богдана надо говорить резко, без скидок.
В связи с этим она считает для меня необходимым, несмотря на то, что мои слова могут оказаться бездоказательными, сообщить Вам, что свои статьи, опубликованные посмертно в журнале „Наша заря“, Богдан сам отправить туда не мог. Он мог писать только для „Просвещения“. Ни политически, ни организационно с меньшевиками он никогда не был связан, и если его статьи с редакционными поправками меньшевиков вышли в „Нашей заре“, то это произошло потому, что в одной камере с Богданом сидел меньшевик Вайнштейн (Секкерин), к которому ходила на свидания меньшевичка Анна Петровна Краснянская, корреспондентка „Нашей зари“. Очевидно, после смерти Богдана его статьи попали в „Нашу зарю“ через Краснянскую.
Зеликсон-Бобровская находит еще, что в реферате умалена роль товарища Сталина, о котором ничего не говорится.
Вот и все, что она мне сказала. Учтите все это при выступлении.
С приветом Фаро».
Одно обстоятельство требовало незамедлительного уточнения. Дело в том, что официального документа о смерти Богдана Мирзаджановича Кнунянца в природе не существует. И никогда не существовало. Умер Сумбат Маркаров. Документы о смерти оформлены на его имя. Рассказы очевидцев о похоронах Богдана Кнунянца весьма противоречивы, иногда даже взаимоисключающи.
С самого приезда Богдана в Баку Мелик Меликян (Дедушка) и Степан Шаумян настаивали на его отъезде из Баку. Может, он послушался и уехал?
Уже в июне 1910 года бакинская охранка доносила по инстанциям, что «Богдан Кнунянц живет в Баку под чужой фамилией». Его искали. В августе 1910 года с помощью сослуживцев пытались установить личность С. А. Маркарова (Маркаряна), показывая им фотографии Б. М. Кнунянца. Из этого ничего не вышло. Сослуживцы не выдали.
Выдал Мисак Саркисян, завсегдатай литературно-художественного кружка, друг Зенина.
«1911 года мая 8 дня в гор. Баку. Я, начальник Бакинского жандармского управления полковник Минкевич, рассмотрев произведенную в порядке положения о государственной охране переписку об обследовании степени политической благонадежности бухгалтера Биби-Эйбатского нефтяного общества Сумбата Александровича Маркарова и служащего в Бакинском отделении Русско-Азиатского банка Николая Ивановича Секкерина, которые по установке их личностей оказались: первый — крестьянином Шушинского уезда Елизаветпольской губернии Богданом Мирзаджановым Кнунянцем, а второй — курским мещанином Семеном Лазаревичем Вайнштейном, нашел:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: