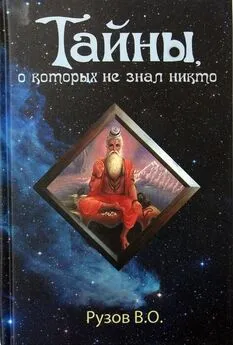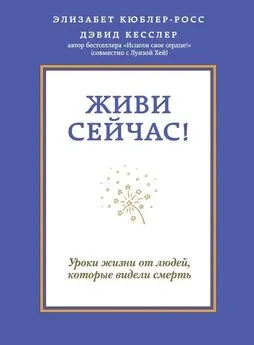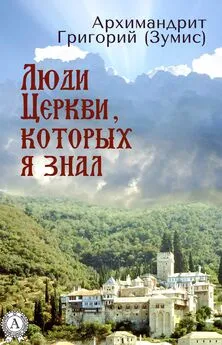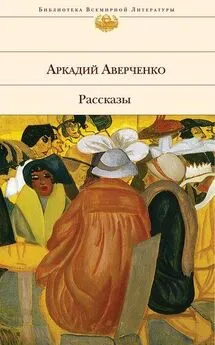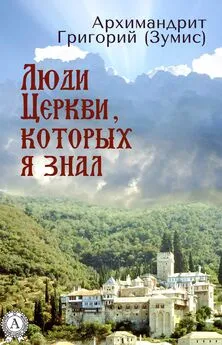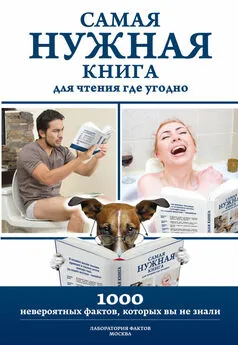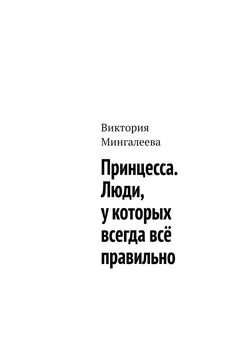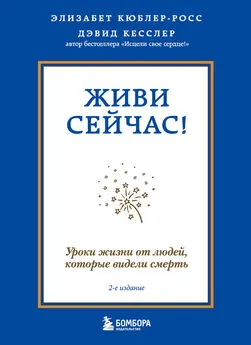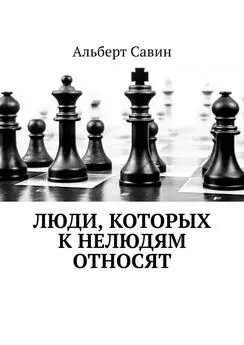Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал
- Название:Моя жизнь и люди, которых я знал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0623-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал краткое содержание
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
Моя жизнь и люди, которых я знал - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Важным событием моего детства стало путешествие в Москву в 1915 году, когда мне было десять лет.
Я уже рассказал, что в 1915 году отец нашел новую хорошую и просторную квартиру на Немецкой улице и мама занялась ее устройством. Чтобы мы с братом не мешали переезду в новую квартиру, нас отправили в Москву к старшей сестре отца Елизавете Николаевной Ольшевской. Она с мужем и детьми постоянно жила на даче на платформе Загорянской, следующей за Мытищами по Щелковской железнодорожной ветке. Теперь Загорянская стала окраиной Москвы, тогда она была от нее довольно далеко и представляла собой высокий сосновый лес, прорезанный продольными и поперечными просеками на равные квадраты с рассеянными по ним еще очень редкими дачами. На той просеке, где находилась дача Ольшевских, других дач не было. Просеки представляли собой две усыпанные песком дороги, примыкающие к лесу, а пространство между ними, посередине просеки, было занято густыми зарослями высокого цветущего кипрея (или «капорского чая»). При ветре казалось, что просеки залиты колеблющимся розовым морем.
Детей у Ольшевских было трое. Старший Стася (Станислав) был много старше нас, я думаю, ему было тогда лет шестнадцать или семнадцать. Впоследствии, в годы гражданской войны, он погиб на Северном Кавказе. Второй, тоже старше нас, была Руся (Мария) — милая славная девочка, относившаяся к нам дружески ласково. У меня есть ее фотография взрослой с маленьким сыном, но дальнейшую ее судьбу я не знаю. Младшим был Винька (Викентий), по возрасту приходившийся между мной и моим братом. Он был славный, веселый товарищ, был нашей постоянной компанией. Он очень скоро, еще мальчиком, умер от какой‑то тяжелой болезни.
Но, конечно, главным в нашем пребывании у тети Лизы были частые поездки в Москву, запомнившиеся мне крепко на всю жизнь.
Первая поездка в Москву оказалась очень грустной и неприятной. Накануне в Москве произошел безобразный немецкий погром. Шла война с Германией, и местные власти, по — видимому, побоялись не допустить такое дикое хулиганство, посчитав его выражением благородного народного патриотизма. От Ярославского вокзала путь в город лежал по Мясницкой улице, на которой было много немецких магазинов, и она в день нашего первого приезда в Москву представляла страшное зрелище. Среди других магазинов я увидел разгромленный кондитерский магазин фирмы Эйнем, чей чудесный шоколад мама постоянно покупала нам в Саратове. Такая же печальная судьба постигла магазины Иммера и Мейера, двух фирм, торговавших цветочными и огородными семенами — я знал их по толстым щедро иллюстрированным каталогам, которые внимательно читал в Саратове. Страшно было смотреть на разбитые огромные стекла витрин, на выброшенные на улицу ящики и рассыпавшиеся по тротуару и мостовой семена. Сколько прекрасных цветов погибло не расцветши!
Но во вторую нашу поездку следы погрома были уже убраны. Не помню, в какой последовательности мы смотрели Москву. Вероятно, начали с Кремля — были в соборах, любовались на колокольню Ивана Великого, на Царь-пушку и Царь — колокол, ходили по колоннаде вокруг памятника Александру Второму. Были в храме Христа Спасителя. Были в зоопарке, похоже, не один раз. Были в этнографическом отделе Румянцевского музея, где меня поразила длинная вереница больших витрин, где были выставлены восковые фигуры представителей всех народов России в национальных одеждах и в окружении разных предметов труда и жизненного обихода. Когда в 1924 году Румянцевский музей был ликвидирован, эта замечательная коллекция была передана в ленинградский Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Картинную галерею Румянцевского музея (как и Третьяковскую галерею) тетя Лиза нам не показала, видимо, побоялась стать плохим для нас гидом по мало знакомой ей мировой и русской живописи.
Зато мы были в Музее изящных искусств имени Александра III, который произвел на меня очень сильное впечатление. Музею тогда было только три года (он был открыт в 1912 году, к нему еще не привыкли, и в нем было очень мало посетителей). Меня глубоко поразили торжественные пустынные залы с редко расставленными слепками античных, средневековых и ренессансных скульптур — все они были увидены мною впервые в жизни, книг с их репродукциями у нас дома не было. В углах зала сидели и дремали старички — смотрители — они ровно так же сидели и дремали через десяток лет, когда я часто бывал, а потом начал работать в этом музее (но тогда я знал этих стариков уже лично — Козлова, Арженухина и других). Я запомнил и первое впечатление от подлинников древнеегипетского искусства из коллекции Голенищева. Конечно, на первые впечатления от увиденных тогда произведений искусства наслоилось немало за пятьдесят лет моей близкой связи с музеем изобразительных искусств имени A. C.Пушкина, и я сейчас уже не могу определить, что поразило и понравилось мне в мои десять лет и к тому же впервые в жизни — мне, наверное, только кажется, что это были греческие классические скульптуры пятого и четвертого веков, творения Микеланджело, «Нимфы» Гужона, мелкая египетская пластика. А может быть, я инстинктивно уже отобрал тогда то, что будет великим сокровищем для меня взрослого.
Русское искусство я тогда в Москве не увидел, но о нем имел некоторое понятие по большому альбому репродукций с картин Третьяковской галереи, где мне особенно запомнились «Сидящий Демон» Врубеля и пасмурный речной пейзаж с лодками Левитана.
Я не мог в свои десять лет предвидеть то, что мировое изобразительное искусство станет в будущей моей жизни главным и основным предметом постоянного изучения и переживания. Но почва для окончательного формирования моей особы и моей профессии была основательно вспахана в те далекие времена, когда я впервые был в Музее изящных искусств имени Александра Третьего.
В школу я пошел в сентябре 1913 года, когда мне было восемь лет. Я поступил в «средний приготовительный класс» (второй по нынешнему исчислению) Коммерческого училища. Это было совсем новое учебное заведение, в специально построенном для него трехэтажном здании, сугубо буржуазное в самом новомодном духе, явно противопоставленное глубоко консервативным гимназии и реальному училищу, имевшимся в старом Саратове. Но так как в нем были еще только самые младшие классы, то ничего собственно коммерческого в нем не было. Учителя были очень разного уровня, а состав учеников самый интернациональный. Директор Соловьев был толстым и добродушным человеком, но он вскоре умер, и вместо него появился бородатый очень важный дядя в парадном мундире и с весьма полицейскими наклонностями. Инспектором был Грозевский (отец прекрасного московского художника) — высокий человек с бородкой и взбитой прической, строгий, но не такой злобный, как новый директор. Так как я попал во второй по счету класс и для остальных мальчишек был «новенький», то меня полагалось дразнить и обижать, что сразу сделало меня замкнутым и нелюдимым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: