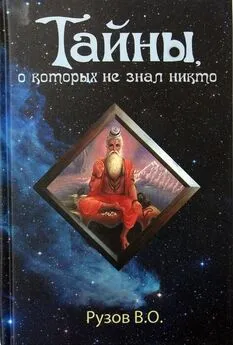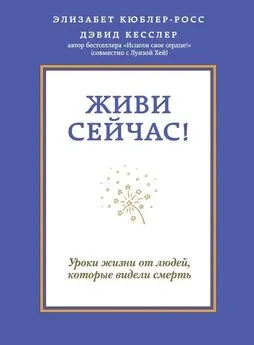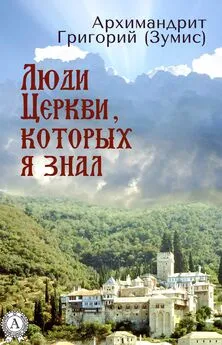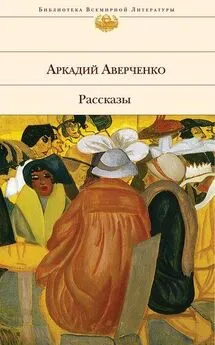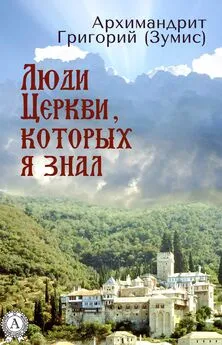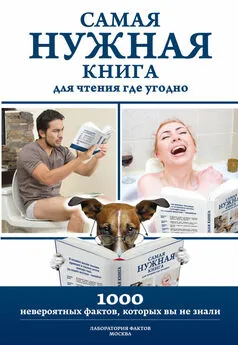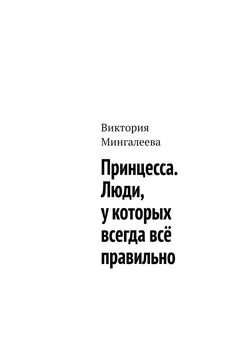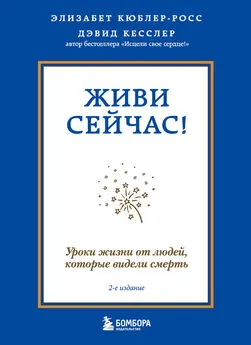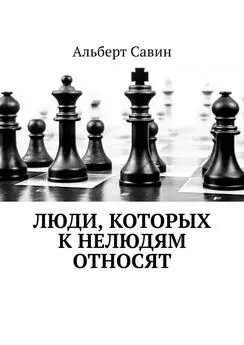Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал
- Название:Моя жизнь и люди, которых я знал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0623-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал краткое содержание
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
Моя жизнь и люди, которых я знал - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Определенную «категорию» гостей составляли врачи — в них постоянно оказывалась необходимость. Я не помню, чтобы на Немецкой улице бывал наш постоянный, чуть не со дня рождения, детский врач — Вячеслав Андреевич Нилов: в первые же дни Первой мировой войны он ушел на фронт, и последний раз я его видел еще на предыдущей нашей квартире, когда в начале 1915 года он на несколько дней приехал с фронта и привез подарки: мне — австрийскую саблю, родителям — большущий стакан от артиллерийского снаряда. Я навсегда запомнил его забавный рассказ, как он упаковал этот стакан от снаряда в маленький ящик, позвав на вокзале носильщика, и попросил взять этот ящик, сказав, что чемодан он понесет сам; носильщик с удивлением и крайним презрением подцепил ящик мизинцем, но тот с места не сдвинулся; он взял всей рукой, но ящик словно пустил корни в каменный пол перрона. Наконец ему пришлось встать на колени и обеими руками с трудом оторвать таинственный ящик от пола. Вячеслав Андреевич был среднего роста, лысый, с аккуратно подстриженной бородой, всегда веселый и приветливый. Мы с братом его не боялись и радовались его приходам, достаточно частым.
Так же часто приходил доктор Николай Яковлевич Трофимов, очень популярный в Саратове, очень ученый и уважаемый врач. После революции он сыграл огромную роль в моей жизни, о чем рассказ будет особый в свое время. Это был высокий худой человек, очень некрасивый: с какой‑то необычайно длинной вытянутой шеей, почти полным отсутствием подбородка, коротко стриженной головой, короткими усами и длинным утиным носом, страшно близорукий, никогда не расстававшийся с очками. Меня тогда поражало, что его указательный палец на правой руке был чем‑то поврежден и представлял тоненькую сухую косточку, мешавшую при писании рецептов. Он был очень молчаливый и строгий, и мы питали к нему глубокое почтение. Ближе я узнал его позднее.
Говоря о медиках, думаю, что здесь же могу рассказать о часто приходившем к нам будущем медике — студенте прославленного медицинского факультета Саратовского университета, ученике столь же прославленного профессора Спасокукоцкого — веселом, умном, очень привлекательном молодом человеке, старше меня на пятнадцать лет и по возрасту приходившемуся посередине между мной и моими родителями, так что приходил он в гости и к ним, и ко мне с моим братом. Это был будущий великий хирург Александр Николаевич Бакулев, всемирно известный врач, который первым в мире и первым в истории человечества стал делать успешные операции на сердце, став в свой черед главным врачом Первой градской больницы (лучшей в Москве), потом Президентом Академии медицинских наук, действительным членом Академии наук СССР! В 1915 году мне было десять лет, ему — двадцать пять. Каким ярким, из ряда вон выходящим, высокоодаренным и необыкновенно привлекательным он был в своей юности, таким он остался на всю свою жизнь — это я знаю потому, что дружба с ним осталась на всю его жизнь. Мы с братом радовались его частым приходам, и ему, видимо, было приятно бывать у нас. Мы затаскивали его в нашу комнату, и он никогда не сопротивлялся; нам всегда было что рассказать ему интересное, и он относился к нам с явным уважением, без какого‑либо снисхождения и без сентиментальности.
Бакулев переселился из Саратова в Москву позже нас, в 1926 году. В Москве он сказал мне: «Вашу семью я буду лечить, пока жив. Но чужих людей по возможности ко мне не посылайте — у меня и так уйма работы». Мне самому пришлось обратиться к Александру Николаевичу как к врачу единственный раз в жизни. В 1944 году, после моего возвращения в Москву из Самарканда, у меня вдруг сделался приступ острейшей боли в животе. Пришел наш добрый друг доктор Федор Иванович Яковлев, широко известный в Москве врач, осмотрел меня и сказал, что у меня ничего нет. Боль прошла без всяких лекарств, но через некоторое время возобновилась вторично с прежней силой, и снова Федор Иванович сказал, что у меня ничего нет. Но в третий раз, в том же году, припадок, случившийся ночью, был такой сильный и болезненный, что я даже свалился с кровати. Наташа, моя жена, вызвала «скорую помощь» и приехавшая быстро докторша нашла, что это больше всего похоже на аппендицит и надо везти меня в больницу. Я попросил, чтобы меня отвезли к Бакулеву в Первую граде — кую больницу. Это было в ночь на воскресенье. День я пролежал спокойно, в понедельник утром пришел Бакулев, посмотрел меня долго и тщательно и сказал: «У вас ничего нет. Полежите спокойно неделю и пойдете домой своим ходом». И боль больше не возобновлялась никогда. И Яковлев, и Бакулев были превосходными диагностами, но Александр Николаевич, я думаю, был к тому же великим волшебником, и болезни его панически боялись и исчезали как можно скорее. Что это было именно так, я убедился немного позднее еще раз, где‑то в пятидесятых годах. Я, как обещал, никого к Бакулеву не посылал (да и мало кто мог знать, что я с ним знаком), но ко мне обратилась именно с такой просьбой ближайшая, с юных лет, подруга моей жены Фрося Васильева. Она тяжело заболела, врачи определили у нее рак, измучили бесконечными анализами и лекарствами. Лечение не помогало, она на глазах становилась все изможденнее и измученнее. Тогда она и обратилась ко мне, и я не посмел ей отказать. Я позвонил Бакулеву, он, разумеется, только воскликнул: «Ну, конечно! Пусть приезжает сейчас же». Фрося приехала к Бакулеву и выложила на стол кучу бумажек с анализами и рецептами. Бакулев сгреб всю эту кучу в сторону, не глядя; тщательно осмотрел Фросю и сказал: «Нет у вас никакого рака. Поезжайте домой и живите себе на здоровье». И после этого визита к Бакулеву Фрося жила двадцать лет!
Бакулев был, бесспорно, одним из тех великих героев — они есть во всех областях творческой человеческой деятельности, — которыми гордится человечество и которые своими великими деяниями оправдывают существование человечества на нашей планете, когда человек уравнивается с природой в своей созидательной мощи. Правда, бывает, что далеко не все люди считают для себя почетным и обязательным преклонение перед такими героями. Я видел на новом кладбище Новодевичьего монастыря прекрасный надгробный памятник Бакулеву, когда он был цел: большая каменная плита, и над ней посередине две бронзовые руки, бережно держащие человеческое сердце, сделанное из ослепительно сияющего прозрачного золотистого сердолика. Какому‑то беспредельно подлому человеку, во времена позорного вырождения большей части советского общества в «эпоху застоя», понадобилось разрушить этот памятник. Его не удалось восстановить в первозданном виде до сих пор.
Немногочисленную, но важную и интересную категорию гостей представляли знакомые моего отца по его давней революционной и служебной деятельности. Регулярно, раз в два — три месяца, приходил Григорий Андреевич Душников, рабочий, старый большевик, немолодой, молчаливый и хмурый человек, к которому я относился с уважением, но никогда не разговаривал. Он приходил к моему отцу, и они долго беседовали вдвоем, о чем — не знаю. Однажды отец собрался поехать к Лушникову в гости и взял меня с собою. Лушников жил в Солдатской слободке, беспокойном рабочем предместье Саратова, на его южной окраине в сторону Увека, у берегов Волги. Мы приехали на широченную немощеную пыльную улицу, по сторонам которой далеко друг от друга стояли небольшие деревянные домики, все окруженные тенистыми палисадниками. Наверное, теперь от этой Солдатской слободки ничего не осталось — Саратов с тех пор вырос раз в шесть или семь, став почти миллионным городом, а расти ему ни на север, где была Соколиная гора, ни на восток, где Волга, ни на запад, где заграждала путь Лысая гора, было некуда, кроме как к югу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: