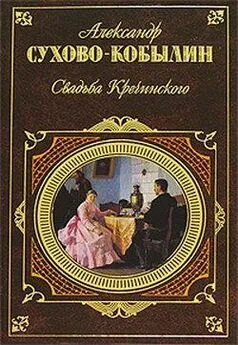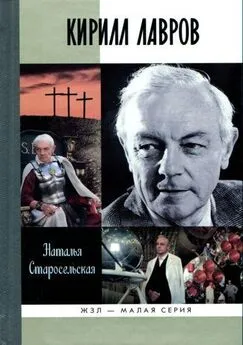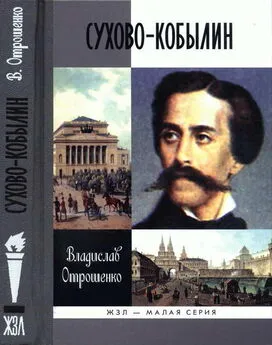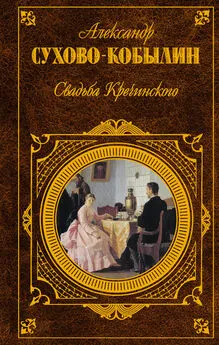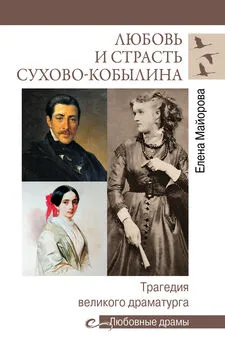Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин
- Название:Сухово-Кобылин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02566-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин краткое содержание
Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.
Сухово-Кобылин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но прежде Александр Васильевич навестил в Киеве своего бывшего учителя — профессора Михаила Александровича Максимовича, одного из основателей Киевского университета Святого Владимира, в котором он возглавлял кафедру русской словесности (в Москве М. А. Максимович был профессором естественных наук). Узнав, что Сухово-Кобылин собирается в Рим, Максимович послал с ним книги для Н. В. Гоголя.
Подарок судьбы, перст судьбы! Сухово-Кобылин зачитывается Гоголем, боготворит его, и вот ему предстоит встреча с любимым писателем. Какой была эта встреча, Сухово-Кобылин вспомнит через много десятилетий, и рассказ его останется запечатленным в мемуарах писателя и театрального критика Ю. Беляева «У А. В. Сухово-Кобылина»: «В этом человеке, — рассказывал Александр Васильевич о Гоголе, — была неотразимая сила юмора. Помню, мы сидели однажды на палубе. Гоголь был с нами. Вдруг около мачты, тихонько крадучись, проскользнула кошка с красной ленточкой на шее. Гоголь поднялся и, как-то уморительно вытянув шею и указывая на кошку, спросил: „Что это, никак ей Анну повесили на шею?“ Особенно смешного в этих словах было очень мало, но сказано это было так, что вся наша компания покатилась от хохота. Да, великий это был комик. Равных ему я не встречал нигде».
Здесь нам вновь понадобится небольшое отступление. Восторженное отношение Сухово-Кобылина к личности и творчеству Гоголя, пафос творчества самого Александра Васильевича дали основание многим исследователям говорить о преемственности традиций. Однако это мнение кажется спорным. Безусловно, творчество Гоголя, как и творчество других отечественных (и не только отечественных) писателей-сатириков, было усвоено Сухово-Кобылиным, но оно было принципиально переосмыслено под пером того, кто открыл России жанр буффонады, трагического гротеска. Подробно мы будем говорить об этом позже, но преамбула здесь, в части биографической, представляется важной.
Уже из приведенной цитаты ясно, что встреча Сухово-Кобылина с Гоголем была не единственной. Передачей книг от Максимовича их знакомство не ограничилось, оно продолжалось какое-то время, и можно только предполагать, что в общении и беседах со своим кумиром будущий писатель нащупывал собственный путь. Глубоко самобытный, который не дано будет в полной мере оценить породившему его времени.
Но все это будет позже, гораздо позже, а пока кончаются вольные дни путешественника и начинаются будни, наполненные изучением философии и литературы, ради чего и прибыл в Германию молодой Александр Васильевич.
Еще когда Сухово-Кобылин занимался с Морошкиным, он составил программу не только образования, но, главным образом, самосовершенствования. Приученный с самого раннего детства к жесткой дисциплине, он решил основательно расширить тот классический курс, который определил обязательным для своего воспитанника Федор Лукич (правда, речь шла тогда, на страницах первого дневника, о необходимом для поступления курсе): «До вступления в университет, Александр, ты должен знать:
Географию и статистику,
Историю и словесность,
Чистую математику и механику,
Физику, естественную историю и ботанику,
Философию,
Богословие и церковную историю,
Языки: латинский, французский и немецкий».
Завершив университетское образование с золотой медалью, Сухово-Кобылин ощущал недостаточность знаний в том, что интересовало его более остального: в философии и литературе. Где же лучше было совершенствоваться в философии, как не в Германии? Вот только время для этого было, пожалуй, не самое благоприятное — на сцену выступили младогегельянцы, отрицавшие «абсолютную идею». Впрочем, может быть, именно их бунт против Гегеля закалил Сухово-Кобылина, сделав его поначалу последователем и апологетом, а затем интерпретатором гегелевской философии и подтолкнув к созданию труда всей жизни «Учения Всемир».
Гейдельбергский и Берлинский университеты дали Сухово-Кобылину многое. Именно здесь закладывался фундамент его будущих воззрений на философию не только как на предмет, но и как на твердую жизненную программу, которой он следовал неукоснительно. Сухово-Кобылин хотел, чтобы его философские построения отличались математической точностью и выверенностью. «Умеренность и аккуратность», но совсем в ином, не молчалинском и даже антимолчалинском понимании ценились Сухово-Кобылиным настолько, что, вычитав у одного из особенно чтимых им философов, Бенджамена Франклина: человек на протяжении жизни должен успеть сделать три дела — жениться, построить дом и написать книгу, — Александр Васильевич скрупулезно развил это положение.
«Принимая долготу жизни в 90 лет, — писал Сухово-Кобылин, — мы имеем: у матери 12 лет, в колледже 10 лет, практическая жизнь 33 года, провинция 30 лет, дряхлость 5 лет.
Увеличение долготы жизни идет за счет оной мудрой, искушенной опытом жизни человека, который является в одном лице почтенным, умудренным жизнью советником, судьей, законодателем и, наконец, мыслителем.
Таким образом, увеличение долготы жизни есть прямое увеличение разумного элемента человечества, то есть прямое вхождение философии в жизнь».
Это — часть «Учения Всемир», погибшего в огне пожара, вспыхнувшего в имении Кобылинка в 1899 году. Труд жизни Сухово-Кобылина погиб незавершенным, но в приведенных словах отчетливо формулируется одно из существенных положений философии того, кто еще в Германии избрал для себя культовыми философов Гераклита и Гегеля.
Германия оказалась для Сухово-Кобылина страной, подтверждающей правильность полученного воспитания и домашнего образования: порядок во всем, строго регламентированная жизнь студентов, аккуратность и почти стерильная чистота городов и селений, подчиненность жизни нравственным принципам. Все это было близко Александру Васильевичу, и, очевидно, поэтому он полюбил немцев и их язык настолько, что на протяжении всей жизни даже в русском правописании использовал немецкие правила (в частности, писал существительные с заглавной буквы, что позволяет нам, размышляя о складе ума Сухово-Кобылина, сказать о нем то же, что он говорил о Гегеле: «Он мыслит Существительными…»). Александр Васильевич был так сильно привязан к этой стране, что несколько лет спустя, получив письмо от младших сестер, путешествовавших по Германии, ответил на него с несвойственной ему открытой сердечностью и даже некоторой сентиментальностью: «Бесконечно благодарю вас за все подробности, которые вы сообщаете мне о Гейдельберге и его милых обитателях. Эти воспоминания были мне… дороги и благодетельны для моего сердца».
Но не все время Сухово-Кобылина принадлежало занятиям, которым он отдавался со всей страстностью своей натуры. Располагая достаточными средствами, Александр Васильевич путешествовал по Италии, Швейцарии, Франции и во всех странах, где оказывался, непременно посещал театры. По свидетельству современников, он превосходно знал репертуар лучших европейских театров того времени и был истинным ценителем постановок и актерского мастерства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: