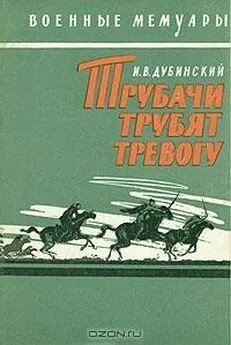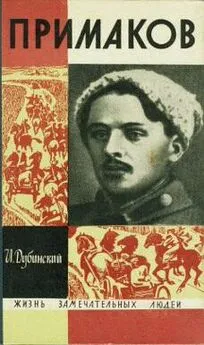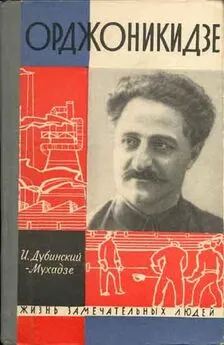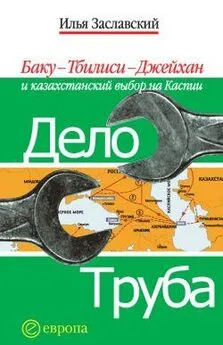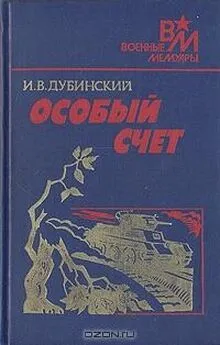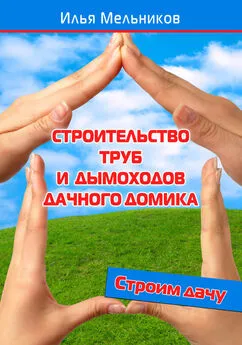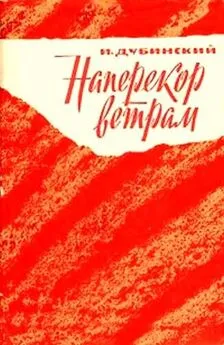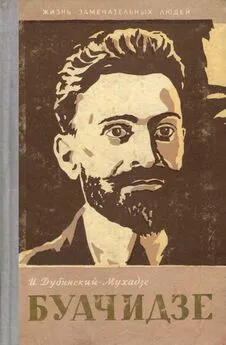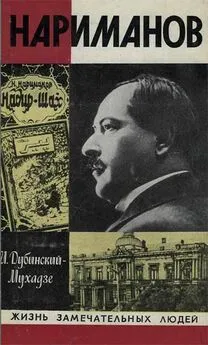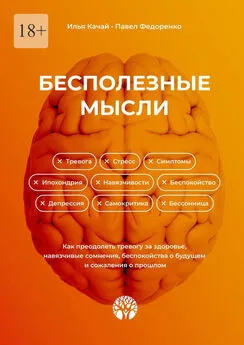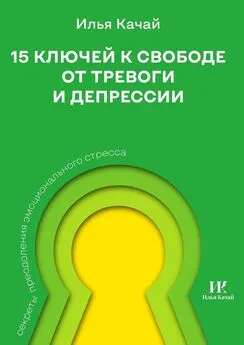Илья Дубинский - Трубачи трубят тревогу
- Название:Трубачи трубят тревогу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1962
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Дубинский - Трубачи трубят тревогу краткое содержание
Книга писателя И. В. Дубинского посвящена героической борьбе червонного казачества против белогвардейщины и иностранных интервентов в годы гражданской войны на Украине. Написана она непосредственным участником этих событий. В книге правдиво и ярко рассказано об успехах и неудачах отдельных кавалерийских частей, о выдающихся командирах, политработниках и рядовых бойцах. Автору удалось выпукло показать отважных вожаков советской конницы В. М. Примакова, Г. И. Котовского, М. А. Демичева, П. П. Григорьева, Д. А. Шмидта, а также проследить за судьбами своих многочисленных героев, раскрыть их характеры. Редакция и автор выражают глубокую признательность ветеранам червонного казачества Киева, Москвы, Ленинграда, Львова, Чернигова, Днепропетровска, Донецка, Харькова, Винницы, Хмельницкого, Ахтырки, старым большевикам черниговцам, черниговскому музею М. М. Коцюбинского, которые оказали ценную помощь в работе над книгой. Автор также сердечно благодарит участников читательских конференций в Ленинграде, Москве, Киеве за дружескую критику и добрые советы.
Трубачи трубят тревогу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Окрыленный дутыми успехами петлюровцев, Волынский отряд генерал-хорунжего Янченко, при котором находились Тютюнник и эмиссар Пилсудского пан поручик Ковалевский, в ночь на 4 ноября перешел границу. На Тетереве мелкие банды из Волынских лесов довели численность отряда до 1250 человек.
Но Тютюнника постигла та же участь, что и Палия.
8 ноября в районе Чеповичи диверсантов встретила кавдивизия Котовского. Получив первый удар, петлюровцы девять дней, уходя от погони, рыскали в лесах Волыни. 17 ноября котовцы окружили банду у Малых Минков — Звиздаля. После упорного боя, в котором пало больше 200 бандитов, остальные сдались. Советские кавалеристы захватили в плен петлюровскую администрацию: начальника гражданского управления Куриленко, министра торговли Красовского, эмиссара Пилсудского поручика Ковалевского, назвавшегося вначале атаманом Терещенко.
Сам Тютюнник позорно бежал с 30 всадниками. Участник этого похода подполковник Ремболович сообщает, что «с первыми выстрелами у Мал. Минков все устремили взоры на генерала Тютюнника. Он же, заметив вражескую конницу, карьером поскакал на запад, к советско-польской границе. За ним следом летели генерал Янченко, командиры бригад Сушко, Шраменко и конная сотня Хмары... Началась паника во всем отряде» [44] «За державнiсть», том 3, стр. 168.
.
По указке пилсудчиков в то же время выступили Булак-Булахович в Белоруссии и генерал-хорунжий Гуляй-Гуленко на Одессщине. Этих авантюристов постигла участь Палия и Тютюнника. Булак-Булахович, сопровождаемый Савинковым, был разбит в лесах Белоруссии, а атаман Гуляй-Гуленко — под Тирасполем.
Но битые мюнхаузены свое очевидное поражение изображали как большую победу. Особенно фантазировал подполковник царской службы Черный, возглавивший банду после ранения Палия. Он пишет, что имел много боев с «московскими частями, разбил пограничную охрану, учебную команду, роту пехоты, 8-й кавалерийский полк червонного казачества, 7-й конный полк, 2-ю бригаду червонного казачества, три отдельных отряда особого назначения, 57-й конный полк, батальон 515-го полка, уничтожил две чрезвычайки, в м. Курном повесил помкомвойск КВО» [45] «За державнiсть», том 3, стр. 192.
.
Надо отдать должное желтоблакитникам — они создали немало трудов о своих «подвигах». Выпущен ряд монографий, издана книга «Зимовый поход». Диверсии осени 1921 года — «второму зимнему походу» посвящен почти весь 3-й том сборника «За державнiсть» («За государственность»), изданного в Калише в 1933 году. Можно прямо сказать: перья петлюровцев превзошли их мечи.
К сожалению, в нашей советской печати почти ничего не рассказано о тех значительных событиях. Чем же объяснить, что в этом отношении петлюровцы оказались впереди? Тем, что для нас, учитывая наши масштабы, вылазка Тютюнника и Палия явилась лишь эпизодом, пусть и кровавым, но эпизодом. Для желтоблакитников в этом бандитском наскоке был весь смысл их жалкого существования. И они, выброшенные на свалку истории, постарались красочно разрисовать свои несуществовавшие успехи.
В госпитале, где не было рентгена, мы с Запорожцем не соглашались на ампутацию. Семивзорову, которого вскоре привезли в Муры (винницкий госпиталь), ногу отрезали.
Десять лет, с 1911 до 1921 года, донской казак провел в седле. Сначала в корпусе генерала Келлера дрался «за веру, царя и отечество» против австрийцев. Затем в корпусе Мамонтова проливал кровь за донских атаманов. Напоследок, осознав вину перед народом, в рядах червонных казаков, не щадя жизни, отстаивал дело рабочих и крестьян. Добросовестно заслужив отпуск, Семивзоров опасался ехать домой. Отважится ли теперь бесстрашный донец, уже безногий, вернуться в родную станицу, куда доныне ему «не было ходу»?
В госпитале мы с Запорожцем долго были прикованы к постели. Каждому из нас, извлекая обломки костей, сделали по четыре операции под наркозом. Лякуртинец приуныл. Рука в локте не сгибалась. А ведь он непрестанно мечтал о чапыгах плуга!
В винницком госпитале лечили и нашего штаб-трубача Скавриди. Как бы ни потешались казаки над рвачеством Афинуса, мы знали, что он много помогал матери.
В природе каждого человека есть свое — основное и чужое — наносное. Свое всегда берет верх, особенно в моменты наивысшего испытания человеческих чувств. Разве «одесский арап» — так звали Скавриди в полку, — совершивший под Стетковцами подвиг, не раскрыл в тот день лучшие задатки своей души? Разве он, включившись в общий порыв, не выбросил из сердца вместе с животным страхом груз одесского дна?
От комкора раненым привезли наградные часы, а мне из полка — серебряную шашку с чеканкой на клинке: «За разгром Палия».
Бондалетов, круглые сутки проводивший у моей койки, восхищаясь подарком, говорил:
— Молодцы хлопцы. Об этой шашке они мне еще в Янушполе говорили.
Однажды Бондалетов прочитал в палате раненым заметку из «Винницких вестей». «Разгромом банды Палия, — писали «Вести», — доблестное червонное казачество прибавило еще одну заслугу к славе своих победоносных знамен». Вскоре нам стало известно, что Литинский уездный исполком преподнес 7-му червонно-казачьему полку Красное знамя за разгром Палия.
К твердыням науки
Наконец весной я очутился в Киеве, куда меня перевезли из Винницы. Как-то на Александровской улице, недалеко от нынешнего Музея украинского искусства, мы встретились с Котовским.
Григорий Иванович был в длинной шинели, в красной фуражке, при серебряной кавказской шашке. Направляясь ко мне, Котовский перешел улицу, поздоровался. Бережно дотронулся до черной косынки, на которой покоилась раненая рука.
— Слыхать, попало вам крепко. Ничего, это бывает. Выздоровеете. Еще повоюем с вами. А помните встречу у Соседова? Ну, как с питанием? Где живете?
Вечером подъехал к моей квартире «вридло» (временно исполняющий должность лошади). Этим видом транспорта, за неимением другого, широко пользовалось население Киева. Толпясь у вокзалов и пристаней, грузчики с тачками, готовые доставить кладь в любой конец, предлагали себя наперебой: «Граждане, дешевое вридло! Кому нужно вридло?»
Тачечник привез мне щедрый подарок Котовского — огромный пакет с продуктами.
Покидая, еще с подвязанной рукой, Киев, я думал о Котовском и как будто слышал его прощальные слова:
— Вот как оно получилось — мы с вами провожали гайдамаков за Збруч, и нам же пришлось встречать их из-за границы.
Тридцать километров от Винницы на машине комкора Примакова мы одолели за один час. В Литине пересели с Бондалетовым на тачанку Земчука. Ну и дорога! Наше путешествие в Хмельник было, по сути говоря, балансированием на краю пропасти. И, как выяснилось потом, случилось поистине чудо, что мы не очутились на ее дне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: