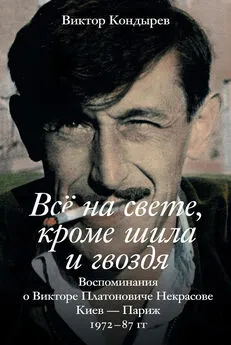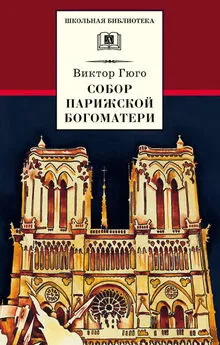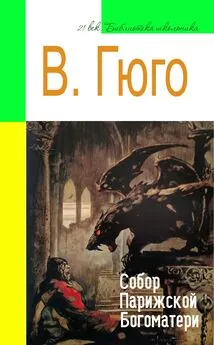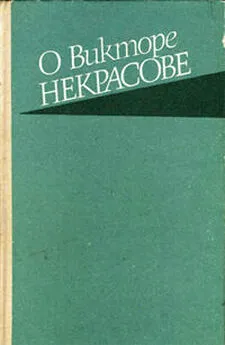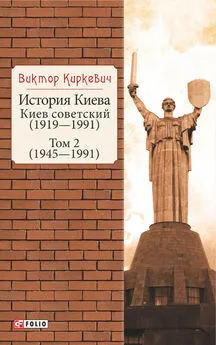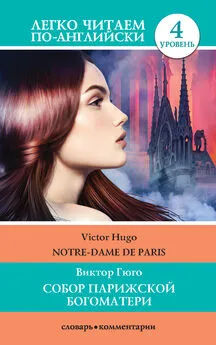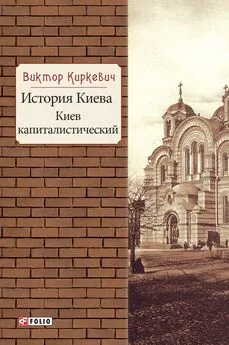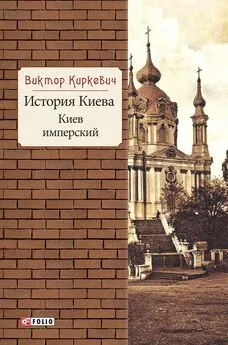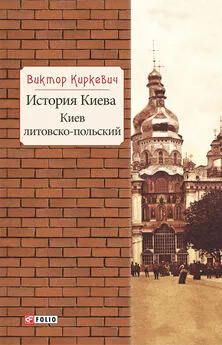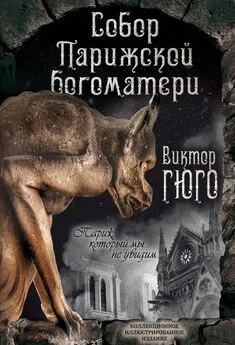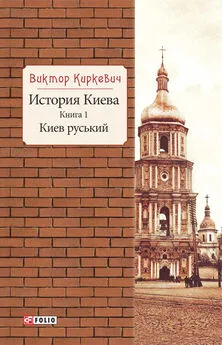Виктор Кондырев - Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг.
- Название:Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Кондырев - Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг. краткое содержание
Виктор Некрасов (1911–1987) ещё при жизни стал легендарной фигурой. Фронтовик, автор повести «В окопах Сталинграда», обруганной официальными критиками; в конце сороковых был удостоен Сталинской премии; в семидесятых – исключен из партии с полным запретом издаваться, покинул страну и последние годы прожил в Париже – там, где провёл своё раннее детство…
Боевой офицер, замечательный писатель, дворянин, преданный друг, гуляка, мушкетёр, наконец, просто свободный человек; «его шарм стал притчей во языцех, а добропорядочность вошла в поговорку» – именно такой портрет Виктора Некрасова рисует в своей книге Виктор Кондырев, пасынок писателя, очень близкий ему человек. Лилианна и Семён Лунгины, Гелий Снегирёв, Геннадий Шпаликов, Булат Окуджава, Наум Коржавин, Александр Галич, Анатолий Гладилин, Владимир Максимов, эмигранты первой волны, известные и не очень люди – ближний круг Некрасова в Киеве, Москве, Париже – все они действующие лица этой книги.
Издание иллюстрировано уникальными фотографиями из личного архива автора.
Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зеленинские ассамблеи
Художник Эдуард Зеленин издал свой первый каталог в Париже. И попросил Некрасова написать предисловие. Тот не отнекиваясь быстренько накропал: «Почему мне нравится Зеленин».
«Хочется ли тебе иметь его картины у себя? Вот критерий оценки произведения искусства самый что ни на есть примитивный, но – что делать? – это мой критерий. И это, как мне кажется, не дело техники или гения, но скорее эмоциональной нагрузки: нужна ли она или нет… Что мне нравится в нём, что он… никогда не прекращал быть самим собой: его произведения живые, радостные… и, как мне кажется, красивые»…
Солнечные лучи редко освещали живые и радостные картины Зеленина. Художник любил работать при электрическом свете, поэтому ставни часто забывали открывать. Дом живописца в первые годы нашей эмиграции прославился своим хлебосольством и приветливостью.
На гулянках сам хозяин дома пил исключительно кока-колу, поскольку если и любил предаваться питейным утехам, то делал это в одиночестве, раз в сезон, с усердием и до беспамятства.
Весёлая, простодушная и со всеми свойская Татьяна Зеленина любила человеческое окружение и могла поддержать компанию в любой день недели и при любой погоде.
На первый взгляд нет ничего проще, чем пригласить к себе знакомых и захмелиться. Но в эмиграции всё не как у людей – даже обычная групповая пьянка организовывалась со скрипом и всхлипами. А что говорить о продуманных гульбищах! Адов труд!
У нас в доме эти собрания звались ассамблеями.
Сложность эмигрантской жизни заключается в том, что все друг друга хотя и знают, но знакомы не тесно. Поэтому к искренне выпивающим людям сплошь и рядом примешиваются непьющие или, страшно сказать, трезвенники-воители.
В доме Зелениных подобная дикая ситуация никогда и никого не подкарауливала. Пили все и помногу. Элегантные французские вина пугливо глазели на бесцеремонную и болтливую водку. Разбавленный аптечный спирт булькал что-то маловразумительное. Распираемое английским юмором чопорное виски поглядывало надменно и втихомолку благоухало. Дешёвый коньяк вел себя как районный ухажёр – хорохорился и перебивал других.
В кухне на стене, среди тульских пряников и хохломских тарелок с ложками, висел рукописный транспарант: «К зелёному змию питая пристрастье, в вине утопил он семейное счастье». Там выпивали опоздавшие и спал кот Семён.
Посреди мастерской на козлах укладывались фанерные щиты. Вокруг на стулья и табуретки стелились доски, в виде скамеек. За этим необозримым столом рассаживались намеренные или случайные гости.
Предприимчивый авангард таких званых вечеров формировался из недавних русских эмигрантов, хотя и французские славянофилы с удовольствием и умилением подключались к попойкам. По квартире слонялись потомки первой эмиграции, бывали цыгане, новоиспечённые израильтяне и американцы, частенько забредали иногородние сородичи.
Каждый приносил еду или питьё по возможности. Тарелки мылись изредка самими гостями, в основном с лицевой стороны. Стаканы и рюмки осквернялись проточной водой совсем редко.
Распитие и поедание складчины начиналось субботним вечером.
…Так вот, тронутый Эдик Зеленин пригласил Некрасова на очередную людную и крикливую вечеринку, чтобы отблагодарить за дружелюбное предисловие. Подарил симпатичную акварельку.
Весь вечер Вика не пил, поэтому вынес массу впечатлений о выпивающих, самое известное из которых вошло в поговорку:
– Просто удивительно наблюдать, как люди глупеют прямо на глазах!
Был там и поэт Виктор Соснора, который приехал в Париж по издательским делам и запил. Две недели пил безвылазно у Зелениных, даже к кухонному окну не подходил. Прослышав о гулянье, попытался принять участие, но заснул за столом, положив голову меж тарелок, ещё до прихода первых гостей. К концу вечера он очнулся, обвёл потрясённым взором шумное застолье и громко объявил: «Я начинаю пить!» Успел познакомиться с Некрасовым и отключился вторично минут через двадцать…
Любитель порезонёрствовать, Эдик как бы выглядывал из-за своих огромных очков. Коренастый, редко матерившийся и себе на уме, он был широким человеком. Считал, что все галерейщики нечисты на руку, поэтому картины продавал сам. Покупатели объявлялись далеко не каждый месяц, но когда сделка удавалась, немедленно звал друзей в ресторан. Шли обычно в «Балалайку». Сам художник в рот не брал, но приглашённые не стеснялись, а он слушал цыганские песни, рассеянно улыбаясь. Цыгане тоже любили его, приходили не чванясь в гости, а со знаменитым цыганом Алёшей Димитриевичем он крепко дружил.
С русским языком Димитриевич был вообще-то в натянутых отношениях, с падежами прямо-таки враждовал. Пил только тёплый чай. Его манера пения была очень своеобразной, с резкими, неожиданными и невнятными подвываниями. Но именно это знатоки высоко ценили.
Когда Алёша брал гитару, его молчаливая молодая жена становилась у него за спиной и слегка покачивалась в такт музыки, кутаясь в цветастую шаль. Алёша преображался лицом и молодел осанкой.
Мы открывали где-то рестораны,
И строили какой-то аппарат,
Носили с голоду газетные рекламы,
И наших жён сдавали напрокат!
Компания вместе с исполнителем пьяненько переживала за тяжёлую судьбину русских изгнанников.
Некрасов вертел головой, как цесарка, очень ему было занятно всё это наблюдать. О нём быстро забыли, но скучать ему не дал художник Олег Целков, выпивший пока в меру и жаждущий излить душу:
– Эти партийные бляди меня сорок лет лишали возможности видеть все эти музеи, выставки, вернисажи! Как они смели запрещать мне поехать в Париж, Венецию, Мадрид, Амстердам! Из-за этих косорылых скотов сколько новых замыслов у меня не родилось! Не давали рисовать, как я считал нужным!
Некрасов, как мог, его успокаивал. Расстроившись нервами, Олег оглоушил фужер водки. В пику Советам, надо полагать.
Жена его Тоня, славянская красавица с высокой причёской праздничного цвета, бывшая артистка московских театров, встревожилась: почему это у Виктора Платоновича совершенно пустой стакан?
– Я вообще не пью! Разве что пробные мужские духи! – улыбнулся Некрасов.
Тоня по-светски оценила шутку.
Тогда ходили слухи, что Некрасов выпил у радушных хозяев то парижские жидкие румяна, то шампунь для жирных волос, то смывку для маникюрного лака. Всё это относится, бесспорно, к устному народному творчеству. Из озорства Некрасов не опровергал категорически эти легенды, лишь посмеивался.
…Невысокий мужчина моего возраста, с приятным молодым лицом и короткой стрижкой, подошёл со стаканом к нам с Некрасовым и вежливо предложил выпить. Явный француз, шикарно одетый в полотняную исподнюю рубаху, в белых в обтяжку брюках, заправленных в кожаные боты, он безукоризненно говорил по-русски. Это был Поль Торез, сын знаменитого французского коммунистического кормчего Мориса Тореза. Всё своё детство он провёл в Союзе, летом – в Артеке, зимой – в Москве, а потом закончил тамошний университет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: