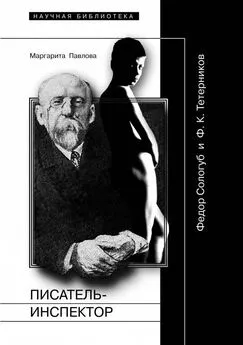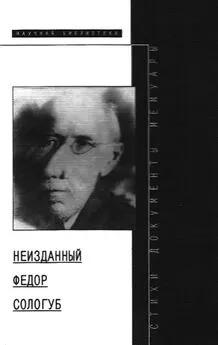Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников
- Название:Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-512-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников краткое содержание
Очерк творческой биографии Федора Сологуба (1863–1927) — одного из крупнейших русских символистов, декадента-ортодокса, «русского маркиза де Сада» и создателя одного из лучших сатирических романов XX века — охватывает первое двадцатилетие его писательской деятельности, от момента вхождения в литературу до завершения работы над романом «Мелкий бес». На обширном архивном материале в книге воссоздаются особенности психологического облика Ф. Сологуба и его alter ego — учителя-инспектора Ф. К. Тетерникова. В приложении публикуются материалы, подсвечивающие автобиографический подтекст творчества писателя 1880-х — начала. 1900-х годов: набросок незавершенного романа «Ночные росы», поэма «Одиночество», цикл стихотворений «Из дневника», статья «О телесных наказаниях», а также эстетический манифест «Не постыдно ли быть декадентом».
Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одобрительная рецензия на «Книгу сказок» была напечатана в «Новом пути». Вслед за Брюсовым А. Смирнов назвал «сказочки» лучшим из всего написанного автором и, в частности, предсказывал: «Сказки Сологуба — это дети нашей новой литературы, так долго бывшей бесплодною и грозившей застыть в старческом бессилии. Они — яркое доказательство ее жизнеспособности и залог дальнейшего расцвета. Они обеспечивают ей место в истории литературы» [542].
Первоначальный прогноз массовой печати о возможном отсутствии читательской аудитории у книги (не для детей и не для взрослых) оказался несостоятельным. Появление в 1905–1906 годах нового корпуса «сказочек» («Нетопленые печи» и т. п.), содержавших злободневный подтекст и получивших название «политических», которые печатались на страницах сатирических еженедельников, способствовало росту популярности автора. 27 ноября 1906 года С. А. Соколов обращался к Сологубу с просьбой: «Дорогой Федор Кузьмич! Ваши „Сказочки“ получил. Спасибо большое. Не пришлете ли для „Перевала“ несколько ядовитых сказочек. Для журнала, рассчитанного на широкие круги читателей, а не только на „посвященных“, сказочки Ваши — вещь глубоко подходящая» [543].
После выхода в свет 10-го тома собрания сочинений успех нового жанра уже не вызывал сомнений, число читателей «сказочек» и почитателей таланта Сологуба возросло. В апреле 1912 года А. М. Калмыкова писала: «Федор Кузьмич, сегодня в первый раз прочла „Сказочки и Статьи“ 10-го тома. Прочла за один дух. Душа говорит в тишине моей комнаты, одно только говорит и чувствует — какое счастье, что для человека в 63 года еще есть, может найтись, — Прекрасное, которого он не знал. И я наслаждаюсь этим Прекрасным, и хочется мне как-нибудь выразить Вам мою благонадежность… <���…> Я так долго верила в Вас, не зная Вас, т. е. не умея назвать Вас, защитить Вас словом, когда слышала о Вас неверное, нелепое, злобное… А теперь — есть у меня слова, Ваши собственные слова неотразимые!» [544].
Практически все рецензенты (независимо от содержания их отзывов) обратили внимание на оригинальность и самобытность странных опусов Сологуба. И это не случайно: в «Книге сказок» он впервые систематически использовал форму притчи в сочетании с элементами поэтики абсурда [545], которые весьма успешно и наиболее продуктивно применил также в «Мелком бесе» — романе-мифе об абсурдности русской жизни и жизни как таковой.
В «сказочках» можно без труда обнаружить черты, сближающие их со «Случаями» Д. Хармса: и релятивизм причинно-следственных связей, и обыгрывание стертых штампов обыденной речи, и речевой инфантилизм. Им также присуща минимизация текста: подчеркивание кратковременности и анекдотичности фиксируемых событий, стирание их «уникальности» методом дублирования или серийности (ср., например, сказку Сологуба «Обидчики» и «Старуху» Хармса), характерная для деструктивной поэтики атмосфера жестокости и насилия и др.
По мнению Н. В. Барковской, соединяющая Сологуба и Хармса идея гротескно-абсурдного и бессмысленного человеческого существования обусловлена «антигуманным характером исторической эпохи», «сказочки» вышли в свет в 1905–1907 годах, а миниатюры Хармса создавались в годы сталинских репрессий: «Именно в катастрофические эпохи, когда психологической доминантой становятся тревога, тоска, страх, актуализируется поэтика абсурда, демонстрирующая разрушение коренных, онтологических основ мироустройства и миропонимания» [546].
Это справедливое в целом наблюдение все же требует уточнений. Значительная часть «сказочек» была написана за несколько лет до Русско-японской войны, две трети — до революции 1905 года. Кроме того, конкретная историческая ситуация могла влиять на настроение Сологуба, но никогда не определяла его мировоззрение. «Злое земное житье» он был склонен воспринимать как бессмыслицу и абсурд, независимо от обстоятельств личной жизни и социальных катаклизмов.
Следует отметить также, что Сологуб имел природные наклонности к занятиям логикой, логическими и речевыми экспериментами, сочинению каламбуров, высказыванию парадоксальных суждений [547](об этом упоминали многие современники). Э. Голлербах, например, вспоминал: «Сологуб был весь соткан из антиномий, но в противоречиях был постоянен и последователен. <���…> Нужно было длительное общение с ним, долгие беседы, чтобы увидеть его „во весь рост“, узнать исключительную остроту и проницательность его капризного ума, проследить тонкие, извилистые изгибы его мысли, оценить огромную его культурность. Слушать его проповеди-импровизации на любую, случайно брошенную тему было величайшим наслаждением. Он „препарировал“ любой образ, любое явление по-своему, по-сологубовски, выворачивая тему наизнанку, разрезая ее вдоль и поперек и мгновенно сшивая отдельные куски ловкими стежками колючих и блестящих, как иголка, парадоксов. Он бросал иногда тезисы, вызывавшие недоумение, — и через полчаса это недоумение развеивалось под неотразимым воздействием его парадоксальных доводов» [548].
Чрезвычайно показательны в этой связи размышления Сологуба о развитии литературного языка, высказанные в статье «Не постыдно ли быть декадентом», отдельные положения которой невольно вызывают ассоциации с языковыми интенциями А. Введенского и Д. Хармса. Он писал:
Слова непрерывно обольщают нас и закрывают от нас действительность, всё равно, как и явления нас обольщают и закрывают от нас истину и тайну. Слова говорят об относительных истинах нашего условного и случайного мира как об истине безусловной, и потому всякая «мысль изреченная есть ложь». Такая вера в слова противна символизму, и такое употребление слов отвергается декадентством. <���…> декадентство есть великое стремление глубоко проникающего духа, откинувшего узкие определения рассудка, который создал слова и веру в слова, пределы и веру в эти пределы. <���…> Если декадент говорит о зеленых собаках ревности или о голодных царевнах в пустыне, то в его словах ничто не противоречит постоянному порядку сочетания представлений. Слова вводятся в новые и точные сочетания, непривычные для слуха, — хотя некоторые из них употреблялись и в старину. <���…> декадентство вызывает, прежде всего, заботу об очищении и улучшении речи, об ее точности и силе. Но здоровые люди привыкли к словесным шаблонам и неточностям, и неожиданно точная речь кажется им непонятною уже по одной своей неожиданности [549].
В этом манифесте была намечена программа, которой Сологуб следовал в своей творческой лаборатории.
Особое пристрастие он имел к сочинению каламбуров [550]. Целый каскад каламбуров встречается в рассказе «Два Готика» (1906); каламбурами пестрит речь Людмилы в сценах свиданий с Сашей в «Мелком бесе» и многие другие эпизоды романа. Характерный пример (игнорирование переносного значения слова) — диалог Рутилова и Передонова в пятой главе:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: