Самуил Маршак - В начале жизни (страницы воспоминаний); Статьи. Выступления. Заметки. Воспоминания; Проза разных лет.
- Название:В начале жизни (страницы воспоминаний); Статьи. Выступления. Заметки. Воспоминания; Проза разных лет.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Маршак - В начале жизни (страницы воспоминаний); Статьи. Выступления. Заметки. Воспоминания; Проза разных лет. краткое содержание
Собрание сочинений в 8 томах. Том шестой: В начале жизни (страницы воспоминаний); Статьи. Выступления. Заметки. Воспоминания; Проза разных лет. Подготовка текста и примечания Е.Б. Скороспеловой и С.С. Чулкова. 1971. 671 с.
В начале жизни (страницы воспоминаний); Статьи. Выступления. Заметки. Воспоминания; Проза разных лет. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но только после революции, которая сделала грамотным все многомиллионное население Советского Союза, Шекспир стал достоянием всех читающих и мыслящих граждан нашей страны. Нет театра, который бы не ставил его пьес, нет городс<���кой>, и сельской библиотеки, где бы не было Шекспира.
Мне лично выпали на долю счастье и большая ответственность — перевести на русский язык лирику Шекспира, его сонеты.
Не мне судить о качестве моих переводов, но я могу отметить с удовлетворением, что «Сонеты» расходятся у нас в тиражах, немыслимых в другое время и в другой стране. Их читают и любят и ценители поэзии, и самые простые люди в городах и деревнях.
Шекспира часто трактовали как психолога, глубокого Знатока человеческой природы. Сонеты помогли многим понять, что он прежде всего поэт и в своих трагедиях…
Некоторые из критиков, весьма положительно оценивая мои переводы сонетов Шекспира, в то же время очень деликатно и довольно бегло упрекают меня в том, что я будто бы слишком «просветляю» Шекспира, лишая его известной темноты и загадочности.
При этом они неизменно ссылаются на то, что я и в оригинальных своих стихах люблю ясность, прозрачность и лаконизм.
Но справедлив ли их упрек? Полагаю, что нет.
В тех отдельных местах текста, которые остаются загадочными и для всех современных комментаторов (как, например, «Свое затменье смертная луна пережила назло пророкам лживым» — сонет 107-й), я целиком сохраняю Загадку, не пытаясь ее расшифровывать.
Иначе обстоит дело с распространенным предложением или целым периодом. Как переводить непонятное? Слово за словом, как переводят речь умалишенного? Что же, придумывать что-нибудь свое непонятное?
Вспомните чеховскую акушерку Змеюкину, которая говорила о непонятном примерно так (цитирую по памяти):
«Они хочут свою образованность показать и потому говорят о непонятном…»
Работая над переводом, я вникал в каждую строчку Шекспира — и в ее смысловое значение, и в звучание, и в совпадения с пьесами Шекспира. Мне казалось, что у меня в руках собственноручное завещание Шекспира.
Вероятно, после прежних корявых и косноязычных переводов сонетов мой перевод мог показаться слишком свободным, естественным, живым?
Но ведь и в оригинале в сонетах звучит устная, непринужденная светская речь — светская, как у Пушкина, как у всех поэтов Возрождения, а не семинаристских периодов литературы, когда «душили трагедией в углу».
Чем же объясняется моя большая ясность и отчетливость по сравнению с оригиналом?
1) Язык Шекспира, хоть в общем он понятен англичанам, несколько архаичен. А я пишу современным русским языком (хоть и всячески избегаю неуместных модернизмов).
2) Русские слова гораздо длиннее английских. Поэтому приходится чем-то жертвовать. Я жертвую некоторыми эвфуистическими украшениями. От этого — и бОльшая ясность.
Мне было бы жаль, если бы некоторым критикам удалось подорвать доверие русских читателей (а их миллионы) к моему Шекспиру…
Беседы с С. Я. Маршаком
Писать все так же трудно…
Запись Беседы С. Я. Маршака с Ст. Рассадиным
— Самуил Яковлевич, я не интервьюер, и у меня, конечно, нет готовых вопросов, подразумевающих Ваши «да» и «нет». Просто редакция «Вопросов литературы» просит Вас рассказать, что Вы думаете о поэтическом мастерстве.
— Руководители литературных кружков обычно считают формальными достоинствами стиха музыкальность, образность и прочие легко измеримые свойства. Они подсчитывают количество метафор, сравнений, образов, оценивают богатство рифмы и таким способом очень легко решают, какие стихи лучше, какие — хуже.
Это соблазнительно легкий подход к поэзии, но надежен ли он? Ведь при таких критериях Бальмонт наверняка окажется «поэтичнее» Пушкина, а Северянин, уж конечно, победит Лермонтова.
Нельзя возразить против верленовского требования («Музыка — прежде всего!»), [75] Из программного стихотворения французского поэта, родоначальника символизма Поля-Мари Верлена (1844–1896) «Искусство поэзии».
но сама музыка бывает разная. Когда она заключается во внешнем богатстве аллитераций и созвучий — это музыка, вылезшая на поверхность. Так вылезают на поверхность образы в имажинизме — это засахаренное варенье, это продукты распада, разложения поэзии, это элементы декаданса.
У меня сейчас выходит книга лирических эпиграмм, [76] Речь идет о сборнике С. Я. Маршака «Лирические эпиграммы», изданном «Советским писателем» в 1965 году.
и в ней будет такое четверостишие — кстати, я его только что написал:
Не может жить без музыки Парнас,
Но музыка в твоем стихотворенье
Так вылезла наружу, напоказ,
Как сахар в разложившемся варенье.
Только те аллитерации радуют и поражают нас, которые как бы приоткрывают перед нами основной путь порта — и они всегда невольные, неподстроенные, незапрограммированные. В пушкинском стихотворении («Вновь я посетил» — в одном из самых зрелых и совершенных его произведений — больше чем в восьмидесяти процентах строк (я подсчитал) вы услышите звук «п» и ударную гласную «о». Разумеется, нет никаких сомнений в том, что Пушкин не занимался специальным подбором слов на «п» и на «о»; смешно даже представить его за таким занятием. Но это не случайность: вникая в эти аллитерации, думаешь, что «п» пришло в эти стихи как тихий звук — все стихотворение очень тихое, что сочетание «п» и «о» из слова «покой». Ведь покоем пронизано все это стихотворение.
В стихах «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», начиная со строк «О, как милее ты, смиренница моя!» и до конца (то есть как раз в той части, где речь идет уже не о «вакханке молодой», а о любимой женщине), звучат десять «м» и больше десяти «л» — всего только в восьми строчках. Мне кажется (и я уже писал об этом), что звуки эти идут от слова «милый» — от слова, которое Пушкин так любил.
Эти «м» и «л» — музыкальная тема стихотворения. У настоящего поэта всегда рядом — и вместе — со смысловой темой есть и музыкальная. Когда мы следим за пушкинскими аллитерациями, мы словно идем по следу его пера, словно находим какие-то музыкальные подтверждения его чувства и мысли, подтверждения их истинности.
А щегольские, пустозвонные, именно подстроенные аллитерации в стихах эпигонов и эклектиков говорят как раз об обратном — о подстроенности самого чувства, о пустозвонстве самой мысли стихотворца.
Это уже не творчество, не мастерство. Это только некоторое умение «делать стих».
— Эти наблюдения подтверждаются и Вашей поэтической практикой?
— Да, иной раз я замечаю аллитерации в собственных стихах много времени спустя после того, как напишу стихотворение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


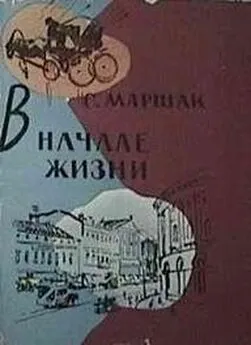

![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/1073510/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan.webp)
