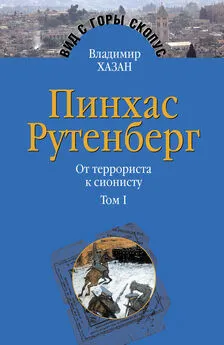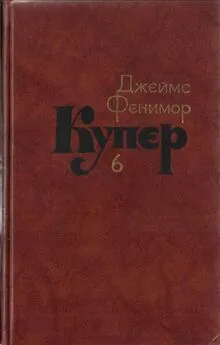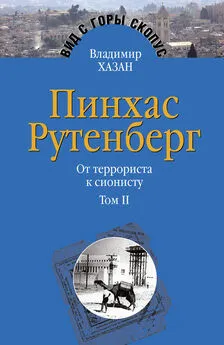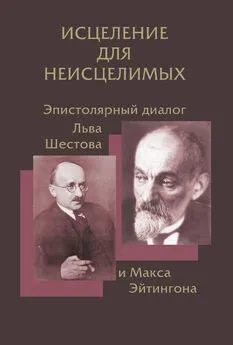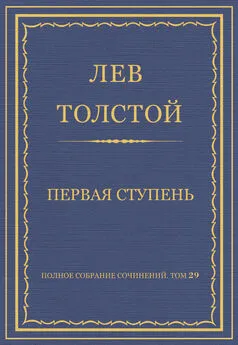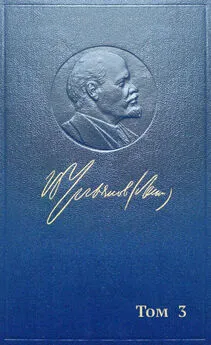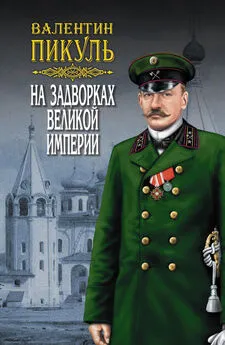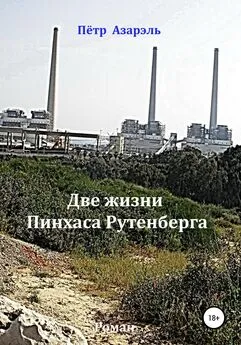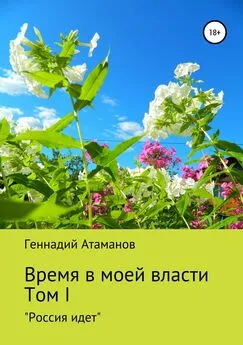Владимир Хазан - Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919)
- Название:Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Гешарим»862f82a0-cd14-11e2-b841-002590591ed2
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93273-285-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Хазан - Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919) краткое содержание
В новой монографии В.Хазана рассказывается об уникальной судьбе известного русского революционного деятеля, члена эсеровской партии Пинхаса (Петра) Рутенберга. Рутенберг был одним из главных участников событий, вошедших в историю России под названием «кровавое воскресенье» и давших толчок началу первой русской революции. Последующая жизнь Рутенберга оказалась связана с совершенно иной реальностью: возвратившийся в иудейскую веру и превратившийся в националиста сионистского толка, он стал одним из крупнейших еврейских лидеров, основателем энергетической промышленности Эрец-Исраэль и строителем будущего Государства Израиль. На обильном архивном материале автор раскрывает яркую и неоднозначную личность Рутенберга, его на редкость сложную и драматическую судьбу, а также тот весомый вклад, который он внес в русскую и еврейскую историю XX века.
Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос о конгрессе, – говорилось в письме, – огромной важности. Мне удалось поднять большое и красивое движение. Но, к несчастью, заболел в сентябре на два месяца, и «хевре» 9загубили все. С огромным трудом удается воскресение теперь конгресса из мертвых. Это особенно трудно, п<���отому> ч<���то> сильных и богатых много. А у меня денег нет. Ничего. Но уверен все-таки, что конгресс будет. Горы работы. Это доставляет мне много. Бьюсь как рыба о лед. Но выбьюсь все-таки. Падать душой не приходится. И <���В>ас подбадривать тоже нечего 20.
По тому, как это письмо написано – наспех, малоразбочивым почерком, с большим количеством ошибок, с недописанными словами, пропусками, незавершенными фразами и недовыска-занными мыслями, – чувствуется, что Рутенберг находился в крайне нервном состоянии. Смятение чувств ярче всего отражало непростую задачу далеко не слабого человека – сохранить присутствие духа и «боевую стойку» в критической ситуации.
О том же – о своей болезни и что «"хевре” загубили все», Рутенберг поведал в статье «Спасение конгресс-движения» (Di varhayt. 1916. 26 июля):
После конференции рабочих я случайно заболел и вынужден был около 2-х месяцев находиться вне Нью-Йорка. Вернувшись туда, я нашел «деятельность» трех известных комитетов и конгресс-движение в агонии…
Под «тремя комитетами» имеются в виду Исполком АЕКон, Национальный рабочий комитет и АЕКом, отношения между которыми складывались как между героями знаменитой крыловской басни, каждый из которых тянул воз в свою сторону. О напряженности этой борьбы дают некоторое представление цитируемые статьи Рутенберга, значение воздействия которых он, сохраняя скептическое трезвомыслие, нисколько, однако, не переоценивал: «Только статьями ничего не добиться, а более действенных средств нет…» – с нескрываемо горьким чувством безвыходности завершается его статья «Бунт против мирного договора» (Di varhayt. 1916. 5 сентября).
Вместе с тем только с общественной газетной трибуны и можно было выразить свое, далеко не частное мнение по поводу тех или иных событий, явлений, процессов или просто отдельных лиц, облеченных общественным еврейским доверием и, несмотря на это, допускавших, по мнению Рутенберга, антиеврейские высказывания, как это, например, случилось на многотысячном митинге в Бостоне. Митинг проводился в знак солидарности американских евреев с евреями стран Европы, оказавшимися в самом пекле войны. Выступая на нем, американский конгрессмен-социалист М. Лондон, председатель Фонда народной помощи, допустил бестактность как в связи с еврейским прошлым, так и по отношению к еврейскому будущему.
«Вы пришли увидеть известных нью-йоркских ораторов, – передает его слова Рутенберг в статье «Национальные мечты, которые становятся явью» (Di varhayt. 1916. 26 ноября). – Мы должны перестать блефовать насчет еврейского прошлого… Нужно перестать себя обманывать насчет еврейского будущего».
Рутенберг следующим образом комментирует этот пассаж:
Бестактное издевательство, незаслуженное оскорбление!
Мартирология Бельгии для Меера Лондона – да, большая. Прошлое Америки тоже грандиозно – но только не еврейское. В Америке можно встретить в суде «еврея судью, еврея адвоката, еврея полицейского и еврея вора».
Чего же еще нужно евреям?
Дешево и некрасиво.
У любого другого народа такая речь, в такое время, на такой манифестации получила бы тут же, на месте, заслуженную оценку…
Я знаю, что Лондон посвятил всю свою жизнь еврейским массам, еврейским рабочим. Возможно, он имел в виду не то, что говорил. Возможно, он был болен в этот вечер.
Однако он сказал именно это. Он – единственный представитель еврейского гетто. Но он также председатель Фонда народной помощи. С его словами считаются.
Разве можно оставить без ответа эти его слова? Разве собрание не должно было протестовать против его слов? И ради Фонда, и ради Лондона, и ради нас самих.
Боялись «поломать» собрание. «Жалко» Фонда.
Зачем такие страхи и осложнения? Почему нельзя подходить к таким вопросам просто и здраво? Почему не сказать открыто то, о чем думают? Зачем прятаться? Разве можно такие вещи скрывать? Многие из нас еще рабы, а не «представители». Им нужны идолы.
Борьба Рутенберга с разнообразными идолами – партийными, политическими, идеологическими и пр. – осложнялась еще тем обстоятельством, что он жил не в «своей» стране и был вынужден, скрывая недовольство, подчиняться ее законам и традициям. Так, не будучи гражданином США, он не мог быть избран в какой-либо официальный орган, быть членом комиссии по выборам делегатов и/или по той же причине не имел права стать во главе созыва конгресса. Его гражданские права в лучшем случае ограничивались агитационно-пропагандистскими функциями: деятельностью газетного публициста – аналитика и комментатора происходящего или митингового оратора. Именно этим следует, конечно, объяснить то количество написанных Рутенбергом статей (или участие в массовых мероприятиях), какое он не написал за всю свою предыдущую и последующую жизнь и которые самим своим содержанием и стилем выдают бессилие автора реализовать замысленные дела на практике, а не на бумаге.
Основной стилевой колер рутенберговских газетных материалов, связанных с АЕКон, – лозунговый, декларативно-рито-рический, проповеднический – словом, крайне несвойственный Рутенбергу-деятелю, всегда неожиданному по логике принимаемых решений и не любившему эти решения объяснять или комментировать. Разумеется, он не мог не ощущать это «бесправное» положение, и горькие сетования на него – в прямой или скрытой форме – то и дело звучат в его неизменно критической, «недовольной» и «ворчливой» оценке происходящих событий. Вот, к примеру, одна из иллюстраций: в статье «Наш следующий шаг» (Di varhayt. 1917. 1 апреля) говорилось:
Более всего скомпрометировали конгресс руководители сионистов Америки. Они на Филадельфийской конференции под флагом борьбы за национальное равноправие ввели процентное ограничение для евреев, которые им не нравятся, и паспортные ограничения для «не граждан».
Точно, как в старой, темной России!
Впрочем, в рутенберговских журналистских – отчетных, пропагандистских или критических – материалах наличествуют разные краски, иной раз неожиданные. Временами мысли облекаются в лапидарную образную метафору или аллегорию, имеющую некоторые даже литературные достоинства, как, например, в статье «Вместе» (Der yidisher kongres. 1915. 8 сентября) – при описании отношений между группой евреев из национального лагеря, к которому принадлежал Рутенберг, и Бундом:
Представитель Бунда, внеся вчера в заключении конференции <���речь идет о конференции в Нью-Йорке 4–6 сентября 1915 г.> свой диссонанс, сказал «ясно», что они «против» и «доедут» с нами только до «Филадельфии». И было бы глупо думать, что они «поедут» с нами в «Чикаго».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: