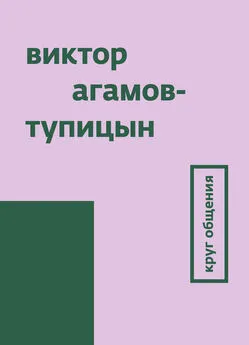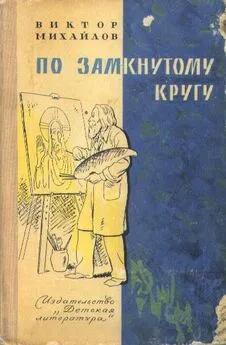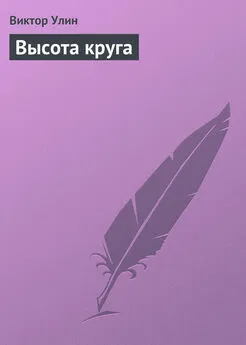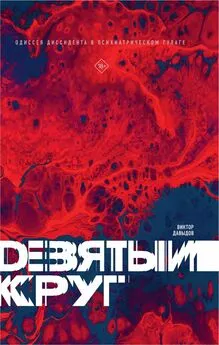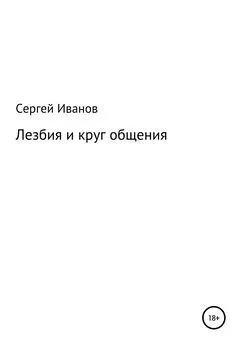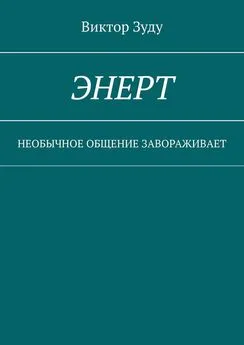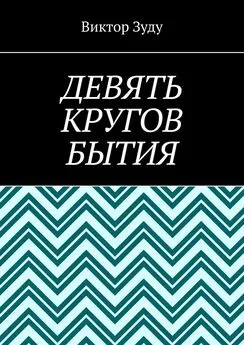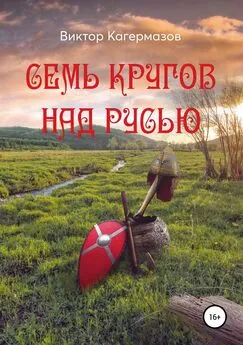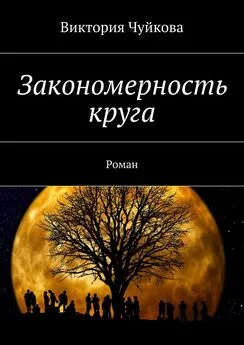Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения
- Название:Круг общения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-140-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения краткое содержание
Книга философа и теоретика современной культуры Виктора Агамова-Тупицына – своеобразная инвентаризация его личного архива, одного из самых богатых источников по истории русской арт-сцены последних сорока лет. Мгновенные портреты-зарисовки, своего рода графические силуэты Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Бориса Михайлова, Андрея Монастырского, Павла Пепперштейна, Эдуарда Лимонова, Алексея Хвостенко и других художников и писателей прошлого и нынешнего века образуют необычный коллаж, который предстает самостоятельным произведением искусства.
Круг общения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Переписываясь с Андреем, я неоднократно упрекал его в подмене метафизики мистикой. Он огрызался, мотивируя свою позицию тем, что «в России иначе нельзя». Причиной для разногласий было уведомление о том, что все мыслимые и немыслимые суждения по поводу «Поездок за город», оценочные критерии и интерпретации заранее предусмотрены и изначально «вписаны» в дискурс «КД». То же самое говорили про альбомы и инсталляции Кабакова, хотя сам он прекрасно понимал, что разговор на эту тему – ящик Пандоры 94. Идея априорной вписанности фрагментов в некое универсальное множество при условии их сверхъестественной координации заимствована из трех источников: клерикального оптимизма, монадологии Лейбница и немецкого идеализма. Все три – «живые зеркала вселенной», которым «препоручена» репрезентация «целого».
Парадигматический сдвиг, совершенный Монастырским и группой «КД» в современном искусстве, это прежде всего перенос центра тяжести с материального на имматериальный художественный труд в сферу эстетической активности, не предусматривающей овеществления. Оглядываясь назад, я все чаще прихожу к выводу, что не будь Савонарола реформатором церкви, он стал бы реформатором искусства 95. По ходу дела замечу, что в нашем лексиконе «эйдос языка» и «эйдос культуры» редко соседствуют с «природным эйдосом» – за исключением случаев, когда мы имеем в виду английский парк или гербарий. Что касается «Поездок за город», то они в основном были связаны с попыткой использовать природный ландшафт как феноменологически нейтральный, т. е. наиболее пригодный в качестве фона. В этих условиях идеальная предметность акций «КД» воспринималась как экспозиционный объект . Благодаря его эфемерности, а также «отсроченности» завершающих процедур возникало ощущение причастности к утопическому проекту. Казалось, будто любой конечный продукт – прерогатива «повапленного» сознания.
Обмен мнениями, который приводится ниже, осуществлен по почте в 1978–1979 годах 96.
В.А.-Т.: Позволь адресоваться к тебе словами из «Безумного волка» Заболоцкого. Итак, «какое у тебя занятие»?
А.М.: Увы, большинство нормальных людей не склонно было бы рассматривать то, чем мы занимаемся (под «мы» я подразумеваю нашу группу), в рамках искусства. И совершенно справедливо. Мы сами только и делаем, что стараемся это доказать. То есть почему, собственно, это искусство?! Быть может, это абсолютно иная ценность со своими формообразующими законами.
В.А.-Т.: Какова структура ваших перформансов?
А.М.: «Глобальная» структура подразделяется на три части: события, фактография и интерпретация. Причем принадлежностью «салона» оказываются две последние. Иногда только интерпретация, т. к. фактография может иметь место и в ежедневной газете под рубрикой «происшествия» и т. п. Кстати, то, что мы делаем наши акции за городом, также имеет формообразующий смысл. «Путешествие» зрителей до места события вводится для того, чтобы редуцировать их коллективно-урбанистическую психологию, настрой, ибо эмоциональная преднастроенность – вещь крайне важная. Иначе – произвол и необязательность. Словом, это и есть «предварительное время» акции (путь).
В.А.-Т.: Каковы отличительные признаки акций, о которых мы говорим, в свете ваших собственных теоретических построений?
А.М.: В принципе, нашу деятельность можно расценивать как литературу или, вернее, как поэзию – но с одной важной особенностью: одноразовость осуществления. Важный момент – это минимизация тех элементов акции, которые индуцируют принадлежность «салону». Если же рассуждать на менее профаническом уровне, то наши действия есть не что иное, как эстетическая практика, принимающая для нас форму единственно возможного существования. Опасаясь недомолвок, поясню, что под «салоном» мы понимаем «выставочность» производимых объектов или акций. Это как раз то, чего мы стараемся избегать.
Переходя к более конкретному ряду понятий, хотелось бы поговорить о так называемой «системе вовлечения». В настоящее время у меня совершенно выкристаллизовался «предмет изображения» в демонстрационной структуре акций: это системы вовлечения сознания в демонстрацию происходящего. Представь себе традиционную систему вовлечения, так сказать, «гантельную»: с одной стороны – «предмет», с другой – зритель, абсолютно внешнеположенный предмету. Между ними как бы прямая связь – линия понимания. Так вот, мои интересы сосредоточены именно на этой линии, а не во внутритекстовой ситуации предмета. Для меня это даже не линия, а целое пространство понимания, в котором «полюса» идентифицируются, образуя единый объект: предмет – зритель. При таком взгляде на систему вовлечения зрители уже не внешнеположены предмету, а являются его элементом, как и любые другие его составляющие или параметры. Другими словами, зритель – это единица, инструментарий (его сознание, разумеется). Он располагает в событии только определенной частью понимания – целиком же оно наступает только в интерпретации.
В.А.-Т.: Но ведь если интерпретация – «принадлежность салона», а ваша цель, как ты говоришь, минимизация подобной к нему принадлежности, то выходит, что вы минимизируете меру понимания, горизонт которого характеризуется именно своей открытостью «свету» интерпретации.
А.М.: Ты прав, если иметь в виду профаническое понимание. Кроме того, все художественные атрибуты акций – всего лишь поверхность, своего рода технический аппарат для реализации определенной системы вовлечения. Если внимательно проанализировать какую-либо из акций, например «Картины» [1979] или «Комедию» [1977], то станет ясно, что система вовлечения в них – вовсе не гантельная и смысл акций – именно в актуализации связи между объектом и сознанием зрителя (плюс сознание участников).
В.А.-Т.: Ты как-то писал, что ироничность ваших акций не имеет ничего общего с «салонной» разновидностью юмора, бытующей в ряде практических достижений американского «эстрадного» концептуализма. Не исключено, что «салонным» является не сам американский концептуализм, а наше восприятие этого феномена и то, как мы трактуем его «фактографию», не зная контекста. Объясни, что ты имеешь в виду, когда говоришь о юморе и иронии.
А.М.: Тут, мне кажется, любопытно подвергнуть анализу самих носителей пафоса или императива иронии. Вопрос о том, на чем, собственно, они основываются: на салонности ли мышления, на в детстве ли прочитанном Гессе или (более серьезно) на метафизически прочувствованной иронии XIX века (Шлегель и Шлейермахер)? Западная публика в своей интеллигентской массе, прочитывающая между пивом и виски какие-нибудь дзенские или суфийские тексты в рекламных обложках, уже изначально настроена на то, что так называемый научно-технический прогресс обеспечит им безболезненное умирание. В силу подобной безболезненности (и умирания, и существования) вся метафизика очень удобно выносится за скобки, а то, что принимается «всерьез», регламентируется как эстетическое. Об этом изуми тельно едко писал еще Кьеркегор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: