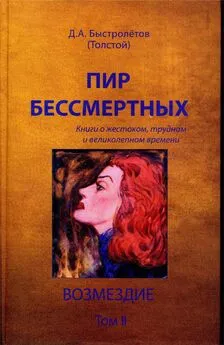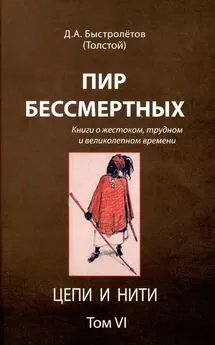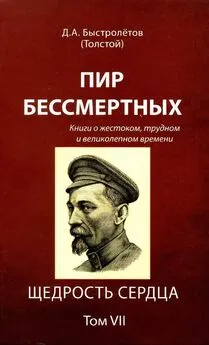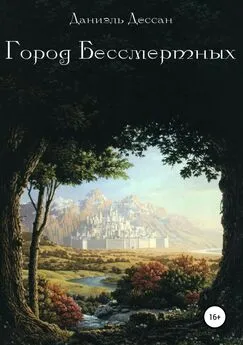Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
- Название:Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крафт+
- Год:2013
- ISBN:978-5-93675-200-1 (том 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2 краткое содержание
Д.А. Быстролётов (граф Толстой) — моряк и путешественник, доктор права и медицины, художник и литератор, сотрудник ИНО ОГПУ — ГУГБ НКВД СССР, разведчик-нелегал-вербовщик, мастер перевоплощения.
В 1938 г. арестован, отбыл в заключении 16 лет, освобожден по болезни в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован. Имя Быстролётова открыто внешней разведкой СССР в 1996 г.
«Пир бессмертных» относится к разделу мемуарной литературы. Это первое и полное издание книг «о трудном, жестоком и великолепном времени».
Рассказывать об авторе, или за автора, или о его произведении не имеет смысла. Автор сам расскажет о себе, о пережитом и о своем произведении. Авторский текст дан без изменений, редакторских правок и комментариев.
Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если поставить больного на ноги и слегка толкнуть в спину, то он пойдет прямо, пока не наткнется на препятствие. Управлять ими не трудно. Вот я, превозмогая головокружение и слабость, поднял их и ставил на ноги, сказал: «Марш в барак! Сейчас начнется завтрак!» И они действительно потащились в барак, потому что он расположен как раз на пути. А я свернул на помойку больницы Таировой, благо она тут же, у огневой дорожки, рядом с уборной. Ясно, что в это голодное время на помойку попадало только все абсолютно несъедобное, иначе оно было бы съедено поварами и санитарами. И все же по сравнению с общелагерной помойкой больничная считалась богатой,здесь всегда было людно и оживленно: в лужах ПОМОЙНОЙ жижи и мочи постоянно ползали мокрые, скользкие и вонючие существа, классом ниже моих лохматых, но сухих баранов — они напоминали даже не животных, а червей. Здесь было лагерное дно, то, о чем великий Горький не догадывался, а великий Станиславский ставить на сцене просто не смог бы: бароны, сатины и компания не смогли бы тут заниматься болтовней.
Ютились помоечники в норах, выкопанных в мусоре, зимой — под снегом. На приличном расстоянии прохаживалась зоркая стража из моих больных. Три раза в день — перед завтраком, обедом и ужином — больничные санитары сваливали тут груды теплых картофельных очисток. Часовые их замечали еще при выходе с заднего крыльца больницы, давали сигнал. И тогда мои больные высыпали все сразу: ковыляли, падали и поднимались и дружно нападали на помоечников. Малосильные человекоовцы живо разгоняли бессильных человекочервей и уносили добычу в барак — мыть, сортировать, перемешивать с хлебом и вареной капустой и лепить аккуратненькие котлетки. Последние потом весь день пеклись на плите, непрерывно топившейся даже летом — голодающим всегда холодно, да и горячая вода нужна фельдшеру Бусе на приеме больных и санитарам — дяде Васе и Петьке — для мытья кадушек, черпаков и мисок: посуду Петька скребет осколками битого стекла, и она всегда у него блещет нарядной чистотой. А котлетки выходили у больных румяными и аппетитно пахли, но на вкус были горькими и, надо полагать, вредили здоровью. Но жизнь есть жизнь: за котлетку давали по две больших самокрутки, а за здоровье не дали бы и окурка, потому что в моем бараке все чувствовали себя смертниками.
Разогнав с помойки ходячих и пересчитав ползающих, чтобы потом послать за ними санитаров, я поспешил в барак: раздача пищи голодным — это большое дело, и присутствие врача считалось обязательным.
После светлого и душистого утра больничный барак казался темной, сырой и зловонной берлогой: проветривать помещение голодные не позволяют (им всегда холодно), маленькие окна загорожены нарами, а электрический свет на день выключается по всей зоне ради экономии. Барак забит поносниками, на двухъярусных нарах копошатся двести человек: одни лезут вверх, другие — вниз, часто совершенно бессмысленно, потому что думать они не могут и движутся либо в силу инстинкта, бессознательно, либо под влиянием случайной мысли, которая мелькнула в затуманенной голове и исчезла, пока тело медленно, косыми, неверными движениями еще пытается осуществить забытое желание.
— Приготовиться к завтраку! Стройся! — командую я в шевелящуюся темноту и громко хлопаю в ладоши.
Около печки устанавливается короткая широкая скамья на толстых ножках; она хорошо выскоблена и насухо вытерта. На скамью ставят две большие бочки с овощным супом и кашей. Хмурый рыжий дядя Вася, бывший гвардейский фельдфебель, теперь сектант и бессрочный заключенный, торжественно одевает на нос железные очки и на плечи чистый белый халат и, сурово сжав губы, берет в руки жестяной черпак на длинной деревянной ручке — страшный символ власти над людьми в лагерях, по смыслу более похожий на железный посох Ивана Грозного, чем на золотой скипетр Николая Второго. Рядом становится фельдшер Фельдман, мой помощник, бывший студент третьего курса Ленинградского мединститута, разбитной малый в казачьей шапке, из-за которой ему дали кличку казак Буся; его посадила невеста, дочь профессора со второго курса: когда Буся перешел на третий, он нашел подходящую дочь другого профессора, преподававшего на третьем курсе, но обиженная девушка написала в ГПУ о еврейских анекдотах, и Бусе дали пятачок. С другой стороны становится санитар Петька, готовый разнимать дерущихся и укрощать строптивых, а голодные — народ злой.
— Начинайте! — даю разрешение я, и рассадивши помоеч-ников на нары в проходе, ухожу в свою кабинку: на столике уже стоят два котелка с баландой и кашей — я на рабочем питании. Проворный Петька уже принес котелки с общей кухни.
Но прежде чем выстроившиеся в длинные ряды больные делают шаг к заветным бочкам, ко мне, опираясь на палку и покачиваясь от слабости, входит Борис Владимирович Майстрах, когда-то командовавший дивизией в Первой Конной, а затем преподававший в одной из московских академий. У него сухая форма белковой недостаточности — высокая прямая фигура похожа на эффектно задрапированный в лохмотья скелет, но в каждом движении и теперь чувствуется выправка бывшего царского офицера. Красивая осанка в сочетании с рубищем делает Майстраха трагическим, величественным и жалким: в зоне его с любовью величают нашим маршалом.
— Я… я., неделю назад… утверждал… что к сегодняшнему Дню… немцы отойдут… километров на сто от Харькова… но они держатся в пределах пятидесяти. Я слышал сводку Совинформбюро по радио около штаба. — Он качнулся, но подпер себя палкой. Отдышался. Уставился в меня мертвыми глазами высушенного судака. Пролепетал: — Я проиграл пари. Возьмите пайку.
— Что вы… Я давно забыл про пари! Идите завтракать.
Скелет моргает невидящими глазами. Собирается с силами. Вытягивается. Щелкает грязными босыми пятками. И гордо отвечает:
— Я офицер! Не лишайте меня последнего… что осталось: уважения… к себе…
Он решительно кладет драгоценный кусочек хлеба рядом с моими котелками, кое-как поворачивается, но в дверях путается и не может выйти обратно: мозг давно не получал белков и истощился; глаза хорошо видят, но человек не понимает то, что видит. Я вывожу Майстраха через дверь и смотрю на раздачу, хлебая баланду с кашей из котелка.
Там в очереди уже обычная ссора — злая и ожесточенная, но совершенно беспричинная, если не считать главную и единственную причину — голод.
— Я… тебя… как стукну… так перевернешься… — сипит раздутый отечник соседу, высохшему, как мумия. Тот бешено скрипит зубами:
— Задушу… зарежу…
Но такие чувства для обоих — непосильная нагрузка. Сидя на нарах, оба начинают покачиваться, подпирают себя обеими руками, качаются больше и больше, и вдруг валятся один на бок, другой на пол. Они лежат как связка лохмотьев и швабра. Минуту молчат и не двигаются, потом начинают шевелиться. Бормочут:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: