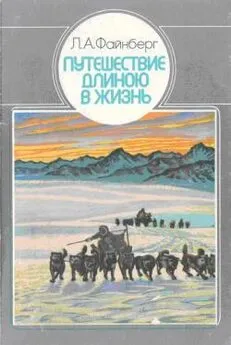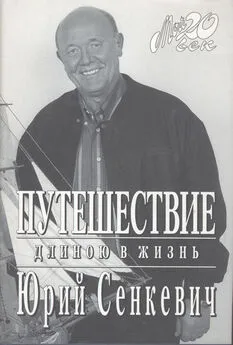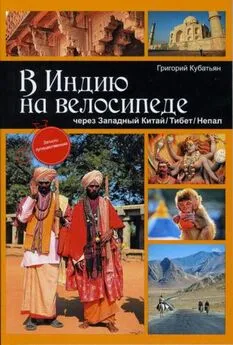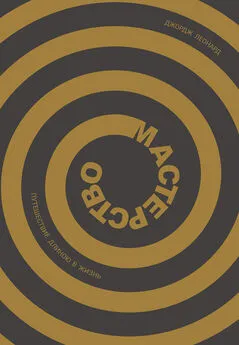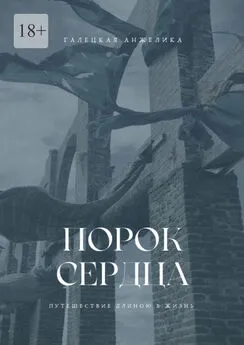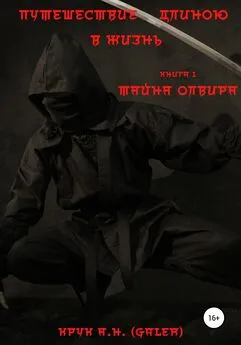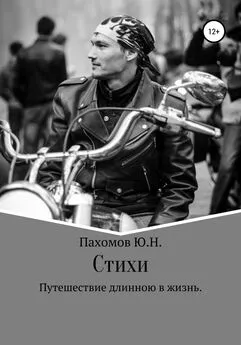Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь
- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-73059-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание
Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.
Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.
И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.
В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.
Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.
Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.
Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бубен у Найдын был такой же, как и у других камов [122].

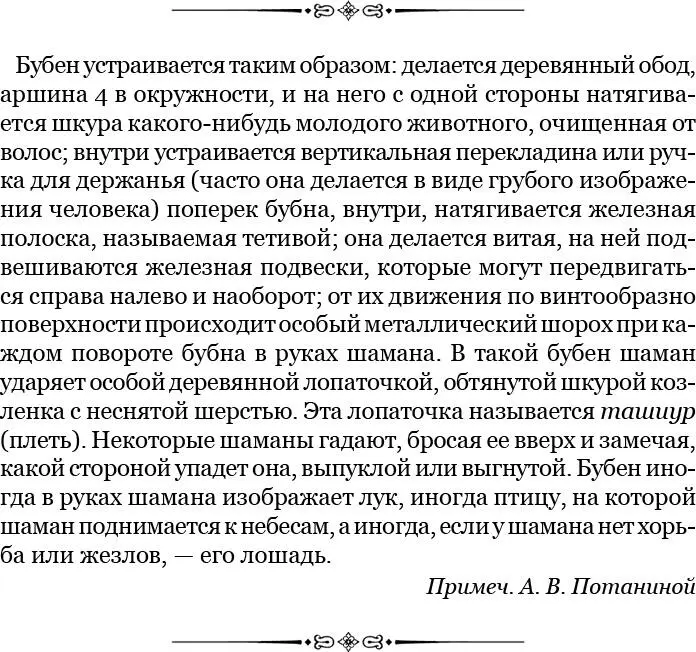
Когда мы приехали в юрту Найдын, ерень уже был протянут и бубен просушивался над огнем, что всегда делается перед камланьем; брат Найдын, время от времени, пробовал его звук, ударяя по бубну колотушкой и снова начиная повертывать бубен над огнем всеми сторонами. Потом на очаг посыпали можжевельник; мать Найдын полила на камни очага молока, побрызгала им в отверстие юрты и затем приступила к одеванию утаганы. Перед еренем был постлан войлочек; став на него лицом к ереню и задом к огню, Найдын начала камлать, т. е. бить в бубен и при этом раскачиваться всем телом. Она держала бубен в левой руке за перекладину внутри его. Сначала следовали два удара кряду, причем бубен держался у левой ноги, затем сильным взмахом бубен переносился к правой ноге, и здесь делался удар, получалась дробь марша. Голова шамана постоянно наклоняется; сначала вся шаманская пляска состоит из этих движений, вызываемых ударами в бубен, затем уже следуют разные вариации, но все время ноги шамана остаются почти неподвижны, и двигается только верхняя часть туловища, иногда с изумительной быстротой. Пляска и музыка Найдын была очень энергична.
При высоком росте и стройности шаманки, при естественной грации, которой она обладала, эти пляски никогда не переходили у нее в безобразные кривлянья. Лицо кама всегда бывает наполовину скрыто бахромой от шапки. Найдын прикрывала его, кроме того, бубном и старалась держаться в тени. Один или два раза Найдын начинала неистово кружиться на одном месте; тогда плащ ее, все его ремешки и змеи разлетались во все стороны и кружились вокруг ее стана. Пляски свои Найдын прерывала, обходя, время от времени, вокруг очага, медленно, с остановками, и тогда начинала петь. Пение было чрезвычайно приятно, так как голос ее был нежен. Мотивов было много. Пение было до крайности заунывно, иногда оно переходило как бы в плач. Эти переходы от бурной пляски, от громовых ударов бубна к нежным мелодиям пения производили очень сильное впечатление. По временам Найдын издавала также какие-то свистящие, шипящие и гортанные звуки или подражала ржанью лошади и кукованью кукушки – это, по объяснению окружающих нас, должно было изображать прибытие духов, подвластных Найдын и вызванных камланьем ее. Камланье в юрте было закончено камланьем под открытым небом.
Надо отдать справедливость Найдын, – она хорошо поняла сценический эффект этой последней сцены. Представьте себе снежную полянку под высокими деревьями; луны нет, но звезды дают достаточно свету; против дверей юрты держали под узду белую лошадь, перед мордой которой на треножнике курился можжевельник; между конем и юртой постлан войлок, и мать шаманки сделала коню поклон и обрызгала его чем-то, затем вышла сама утагана, медленно направилась к коню и начала бить в бубен. Лошадь храпела, но не рвалась; очевидно, она уже привыкла к этому. Затем Найдын отступила от коня, все время не переставая бить в бубен, и вошла в юрту задом, очевидно, желая этим выразить почтительное отношение к коню или, может быть, к тому, кто невидимо присутствует тут, по ее представлениям.
В юрте она опять обошла вокруг очага, направилась к ереню и, после камлания перед ним, начала бросать свою орбо в колени присутствующим при камланье людям. Каждый, кому оно брошено, берет его в руки, прикладывает в знак почтения ко лбу и подает снова Найдын; она снова поколотит в бубен и снова бросит, не прерывая пения, не выказывая никакого участия, как будто действует во сне. Каждый, подавая орбо, произносит ойио или торак, судя по тому, верхней или нижней своей стороной упала к нему в колени орбо. То, что поется во время этого бросанья, и есть предсказанье судьбы. Эти предсказания, по-видимому, старинные, но в них Найдын, или вообще кам, более или менее искусно, судя по таланту, вставляют свои импровизации, сообразно с обстоятельствами.
Иногда человек в это время задает каму вопросы, и последний импровизирует ответы. Найдын бросала свое орбо всем, не обходя никого, даже детям, и всем по порядку. В отличие от монгольских шаманов, урянхайские кружатся по солнцу. Обойдя всех, Найдын опять стала перед еренем, т. е. перед шнуром с джаламой, и здесь мать и брат стали снимать с нее камское платье; в это время она корчилась и стонала и в то же время не переставала тихонько напевать; успокоилась она только тогда, когда все шаманское сняли с нее; она имела вид человека только что проснувшегося и оправилась уже после сильной понюшки табаку и чашки чаю, которую ей подали. Вид у всех камов, и мужчин и женщин, такой, какой бывает у людей с сильными страстями: морщины показываются рано и бывают глубоко врезаны, глаза почти у всех имеют в себе нечто особенное, они как бы больше блестят, по крайней мере, это бывает заметно в дни камланий.
Нам всегда почти приходилось наблюдать камов в дни, назначенные уже для камланья, определенные раз навсегда; а все камы, говорят, чувствуют особое нервное возбуждение, когда наступает время камланья; с ними даже случаются болезненные припадки вроде падучей, если они удерживаются от камланья. Урянхайские камы совершают обязательные камланья 9-го, 19-го и 29-го числа каждого месяца. Можно и нарочно пригласить кама камлать, например, по случаю болезни, или ради освещения нового домашнего онгона.
Все пение Найдын и других урянхайских шаманов, даже и тех, которые в обыкновенной жизни уже говорят монгольским языком, совершается, как бы для большой торжественности, на языке урянхайском или, как в этом случае говорят иные монголы, на уйгурском. Впоследствии нам перевели некоторые отрывки из того, что пела Найдын во время своего камланья.
Вначале она обращаясь к змее:
«Златоглавая моя змея Амырга!
Пьющая воду из вершин рек!
Шагающая по вершинам гор!»
Дальше она пела:
«Левой рукой держусь я за радугу, правой – за небо.
Тело мое велико, как гора, сердце мое крепко, как кишечило (надмогильный камень).
Шуба моя из лохмотьев, пища моя горька, как сосновая смола».
С урочища Модон-Обо мы любовались видом, который был великолепен. Большая долина Енисея видна верст на десять; она тянулась с востока на запад. Вдали, на противоположном берегу, опять высились скалистые горы. От нашей стоянки у подножия Танну-Олы до Енисея было верст двадцать; воды в реке нам не было видно за береговым уступом, но линия реки обозначалась густым тополевым лесом; долину Енисея местами перерезывали речки, сбегавшие с Танну-Олы; их берега тоже окаймлялись кустарниками тальника и, главным образом, облепихи (Hippophae rhamnoides); деревья были уже в осеннем ярко-желтом уборе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: