Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото
- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-59497-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание
Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).
Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.
Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.
И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.
Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.
Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.
В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.
Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.
Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Массив Шуло-шань состоит из нескольких самостоятельных гряд, лежащих в северо-западном – юго-восточном направлении, сливающихся на юге в одну цепь, густо поросшую на северном склоне еловым лесом и кустарниками, где находят приют олени и кабарга. В ущельях вблизи ключевых источников ютятся китайцы-скотоводы; тут же по соседству рудокопы занимаются добыванием меди, а несколько далее, в предгорьях, разрабатывается и каменный уголь.
Двадцать девятого марта на уединенном пустынном биваке утро мелькнуло незаметно, и в полдень наши верблюды по-прежнему неутомимо шагали в северо-восточном направлении. Монгол-подводчик Дэлгэр с сыном Дайчжи действовали прекрасно, и мы не могли нахвалиться выносливости и бодрости неизменных «кораблей пустыни». Вновь перед глазами потянулись мелкие каменистые гряды, убранные хармыком, долины, покрытые в верхних частях полынкой, а в нижних разноцветными ирисами. Глаз присмотрелся к окружающему и жаждал новых впечатлений. Каждый родник, оживленный свежей мелкой растительностью, иногда деревьями, преимущественно вязами, а иногда просто густым высоким дэрэсуном, приветствовался большою радостью. Каменисто-песчаное русло высохшей речки привело нас к населенным пунктам – китайской деревне Ца-цзи-шуй и еще ниже – маленькому городку Суань-хоу-пу. Питавшийся арычною водою городок имел традиционную башню, а его порядочные домики, числом сто семьдесят, и лавки свидетельствовали о достаточной зажиточности населения.
Тщательно возделанные пашни зеленели изумрудными всходами, а за ними, на севере, до самых гор расстилалась долина Цхо-еэ-тан, питавшая многочисленные стада домашних верблюдов и крайне доверчивых, смирных антилоп харасульт (Gazella subgutturosa). Кое-где попадались монгольские вьюрки, каменные или горные голуби и оригинальные больдуруки, стайками прилетавшие из песков Тэнгэри полакомиться сульхиром (Agriophyllum gobicum). С напряжением осилив долину Цхо-вэ-тана, караван поднялся на поперечный кряж Гэ-да-шань и взглянул уже наМонголию. Граница внутреннего Китая отмечена здесь Великой стеной, от которой сейчас виден только размытый глинистый вал и несколько башен в пять и более сажен высотою. Еще через несколько верст, вблизи разветвления дорог – влево на Цаган-булак и вправо на Нин-ся, показался обелиск с китайской и маньчжурской надписями, гласившими, что путник отнюдь вступает на территорию алашаньской земли.
Чем дальше на север, тем ровнее становился рельеф местности; травянистый покров бударганы, дэрэсуна и более нежных цветущих форм – сиреневого касатика, белого астрагала и желтой караганы вдали уже пестрел островками желтых песков. Под ногами шныряли ящерицы, ползали жуки и изредка полосатые змеи. Ночью повсюду резвились проворные тушканчики. Вблизи дороги то и дело поднимались больдуруки, для которых наступило время гнездения. Действительно, мы наблюдали этих птиц, гнездящихся в большом количестве у самой дороги; они были заняты откладкой яиц, которые помещались прямо на земле в ямке, даже не всегда выстланной стебельками; яйца одной пары лежали иногда всего в двух-трех саженях от яиц другой пары. Яиц в гнездах было от одного до трех, в последнем случае уже немного насиженных; с пятого апреля все гнезда уже содержали по три яйца, то есть полную кладку. Самки сидели на яйцах очень крепко и покидали гнезда лишь в крайности, убегая и прижимаясь к земле, самцы же срывались обычным порядком, с криком; самки отвлекали внимание собаки от гнезда точь-в-точь, как это делают тетерки.
Редкие монгольские стойбища и разбросанные там и сям плохенькие фанзы китайцев, занимающихся в Юго-восточной Монголии скотоводством (бараны и верблюды) и извозом, вносили мало оживления. Зато на самом пути довольно часто встречались небольшие партии паломников, медленно пробиравшихся на поклонение святыням, с трудом волоча на себе весь свой скарб. Этот трудный подвиг доступен лишь здоровым и сильным людям, тогда как слабейшие нередко погибают от жажды и истощения, не достигнув заветной цели. Одну из таких жертв молитвенного долга – несчастного ламу – члены экспедиции видели уже бездыханным трупом на самом краю дороги.
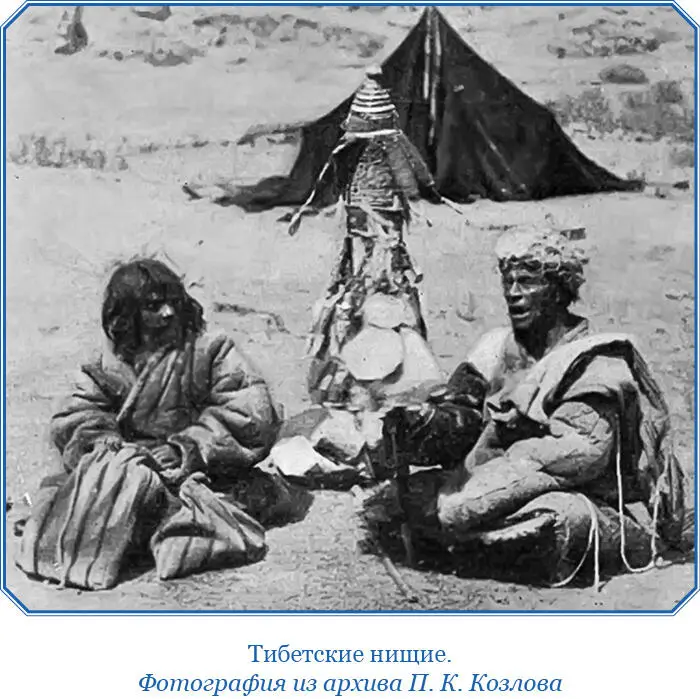
На этот раз экспедиция следовала восточной, уже знакомой окраиной песков Тэнгэри и с помощью крепких верблюдов осилила ее в семь переходов. Второго апреля с раннего утра путешественники вышли из области травянистых степей и окунулись в настоящую пустыню. Легкие облачка, постоянно набегавшие на солнце, и порывистый ветер освежали атмосферу, не давая ей раскаляться. Бесконечное серо-желтое море, простиравшееся к северу и западу, волновалось округлыми, барханными возвышениями. На гладкой, точно утрамбованной поверхности земли ясно выступали караванные пути, пешеходные тропы, взбегавшие к барханам, увенчанным обо, и даже микроскопические дорожки, проложенные жуками и ящерицами; эти мелкие, едва заметные черточки составляли причудливые узоры и заканчивались обыкновенно у круглых отверстий, куда то и дело исчезали бойкие широкоголовые ящерицы.
К вечеру утомленный однообразием взгляд с радостью остановился на травянистой болотистой полосе, залегающей у колодца Хоир-худук; значительно позеленевший дэрэсун приютил здесь серых журавлей, турпанов и серых гусей; саксаульные сойки перелетали с одного холма на другой; в отдалении звонко разговаривали кулики, кричали чибисы, медленно взмахивая крыльями парили чайки, а там – над окраиной песков – быстро направлялся к западу табун дроф. По мере сгущения сумерек погода заметно портилась, и около полуночи разразилась сильная северо-западная буря; под напором ветра палатка стонала, полотно трепетало и рвалось прочь от земли, а спящих внутри палатки обдавало тонкой пылью, стеснявшей дыханье.
От колодца Хоир-худук до озерка Ширик-долон тянутся пространства, занятые песчаниками, глинами и более твердыми красноватыми или темными породами, где пески нередко сменяются хорошими кормами, создавая более или менее отрадную картину. Вообще я должен сказать, что пустыня Гоби ранней весной вовсе не так мертва, как это принято думать; водоносный горизонт в этой части Центральной Азии находится сравнительно неглубоко и в более низких местах прикрыт песчано-глинистыми пластами от четырех-пяти до десяти-двенадцати футов толщиною. Правда, в большинстве случаев вода не совсем пресная, а солоноватая или известковистая. Самая разнообразная пустынная растительность служит пищей не только верблюдам, но и лошадям и даже баранам, так что монгольское население в ближайшем соседстве с алашаньскими песками может существовать вполне безбедно и не в праве жаловаться на судьбу; лишь в редкие, исключительно засушливые годы жизнь обитателей пустынных мест становится действительно незавидной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










