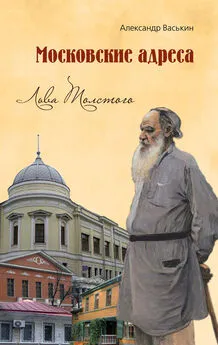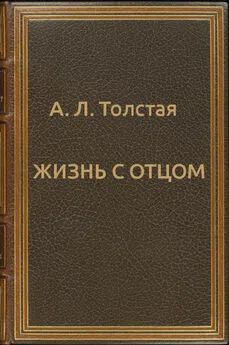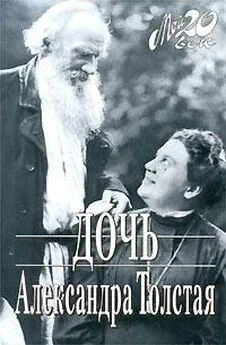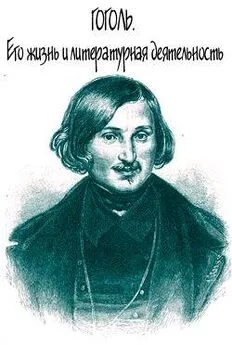Александра Толстая - Отец. Жизнь Льва Толстого
- Название:Отец. Жизнь Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1989
- ISBN:5-212-00242-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Толстая - Отец. Жизнь Льва Толстого краткое содержание
Книга написана младшей дочерью Толстого — Александрой Львовной. Она широко использует документы, письма, тексты Толстого. Однако книга ценна и личными впечатлениями Александры Львовны. С большим тактом, глубиной и пониманием пишет она о семейной драме Толстых. А. Л. Толстая сумела показать на довольно небольшом пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материала и фактов жизни Льва Толстого, невероятную цельность, страстный поиск истины, непрерывное движение духа писателя–творца в самом высоком смысле этого слова.
Печатается по изданию: Издательство имени Чехова, Нью—Йорк, 1953 год
Данное издание полностью его повторяет, сохраняя особенности орфографии и синтаксиса автора.
Ещё книги о Толстом (в т. ч. Александра Толстая «Дочь») и писания Льва Толстого берите в библиотеке Марселя из Казани «Из книг» и в «Толстовском листке» Вл. Мороза.
Отец. Жизнь Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА XXXIV. «ХВОРЬ»
Большинство людей считает признание своих ошибок — слабостью, а не силой. Ложное самолюбие, боязнь унизиться, показаться смешными, заставляет их оправдываться, выставлять перед людьми свое превосходство, свою непогрешимость. Покаяние, смирение, сознание своей греховности свойственно, к сожалению, лишь немногим.
Толстой не боялся уронить своего достоинства, прося прощения у своего слуги, на которого он сердился, признавая свою неправоту перед учеником в школе, перед женой и собственными детьми, когда был неправ по отношению к ним. Ему было гораздо легче покаяться, чем продолжать жить в враждебной атмосфере, даже если не он один был в этом виноват.
Отношения с Тургеневым давно тяготили его и в один из тех просветленных моментов, которые все чаще и чаще находили на него, он написал Тургеневу.
«…Простите мне все, чем я был виноват перед вами», — писал он ему в Париж весной 1878 года и просил Тургенева все забыть, сохранив в памяти только одно хорошее, что сближало нх в начале их знакомства.
«Получил ваше письмо.., — писал Тургенев в ответ. — Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку».
В начале августа, когда семья Толстых только что вернулась из Самарской губернии, Тургенев поспешил приехать в Ясную Поляну. Приезд этот был волнительным событием в семье Толстых. Своей живостью, ярким красноречием, блестящими и остроумными рассказами Тургенев очаровал всех. По–видимому, и * сам он остался очень доволен своим посещением.
«Я почувствовал очень ясно, — писал он Толстому, — что жизнь, состарившая нас, прошла для нас недаром, и что — и Вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад…»1.
Но несмотря на прожитые годы, на внешнее примирение, оба писателя были по–существу настолько различны, что настоящей дружбы между ними не могло быть. Тургенев оставался тем же эстетом, поклонником запада, романтиком, мало интересующимся религиозно–философскими вопросами; для Толстого же эти вопросы теперь, больше чем когда–либо, составляли основу его жизни. Он пытался поделиться с Тургеневым своими задушевными мыслями, впустить Тургенева в свою святая святых, но Тургенев, не вникнув в душу Толстого, скользнув по поверхности, воспринял настроение Толстого по–своему.
Он (Тургенев — А. Т. ) — писал Толстой Фету, — все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна».
«Радуюсь тому, что вы все физически здоровы, — писал Тургенев Толстому, — и надеюсь, что и «умственная» Ваша хворь, о которой Вы пишете, прошла. Мне и она была знакома: иногда она являлась в виде внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершилось и в Вас».
Очевидно, Тургенев объяснил «хворь» Толстого, как «муки творчества», испытываемые художником перед зарождением нового произведения, а не как искание Толстым смысла и оправдания нашей земной жизни — искание Бога.
Тургенев понимал и ценил Толстого–художника и, примирившись с ним, не сомневался, что, пользуясь всяким случаем восхвалять произведения Толстого, особенно «Войну и мир» — он угождал Толстому. То, что Толстой, раз отработав и напечатав свое произведение, позднее не любил возвращаться к нему, и то, что в данное время Толстой уже не мог интересоваться романами, Тургенев понять не мог.
Путь человека, ищущего Бога — всегда одинок, вне даже самых близких людей. Жена, Н. Н. Страхов, Фет. Они не могли помочь Толстому. Они могли только улавливать какие–то им доступные, а иногда им присущие мысли и чувства, но они не могли проникать в тайники этого сложного, многогранного существа.
И как всегда в периоды такой усиленно–напряженной деятельности, Толстой прибег к своему дневнику:
«С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, — пишет он 2 июня 1878 г., — только с глазу на глаз начинаются настоящие отношения; только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя…»
«Если я не удовлетворяюсь и, главное, не увлекаюсь изучением частным, — пишет он дальше, — а желаю узнать, понять хоть что–нибудь вполне, я увижу, что я ничего не могу знать, что ум мой для жизни временной орудие, для настоящего знания — игрушка, обман (Паскаль)».
Какие же были те вопросы, на которые Толстой так настойчиво искал ответа: «а) Зачем я живу? Ь) Какая причина моему и всякому существованию? с) какая цель моего и всякого существования? d) Что значит и зачем то раздвоение — добра и зла, которые я чувствую в себе? е) Как мне надо жить? Что такое смерть? Самое же общее выражение этих вопросов и полное есть: как мне спастись? Я чувствую, что погибаю — живу и умираю, люблю жить и боюсь смерти, — как мне спастись?»
«… На меня стали находить минуты сначала недоумения, — писал Толстой в своей «Исповеди», — остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить попрежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?»
«… Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это — смерть».
«Жизнь моя остановилась…
…Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была та, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто жил–жил, шел–шел, и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели…» «Жизнь мне опостылела — какая–то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как–нибудь избавиться от нее». Нельзя сказать, что я хотел убить себя.
Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотения… Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни».
Он бродил по Ясной Поляне, иногда с собакой и ружьем, и все одни и те же мысли преследовали его: придет смерть, и что же? Зачем я живу? «Я сам не знал, чего я хочу, — писал он в «Исповеди». — Я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего–то еще надеялся от нее». Толстой перестал ходить с ружьем на охоту — он боялся себя, боялся, как он сам выразился, «чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: