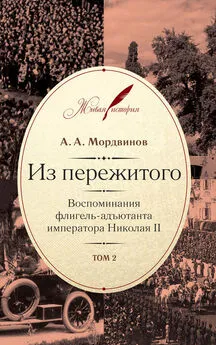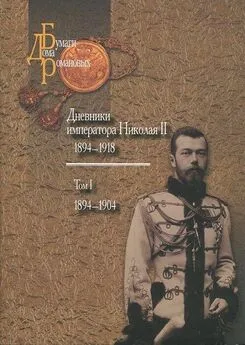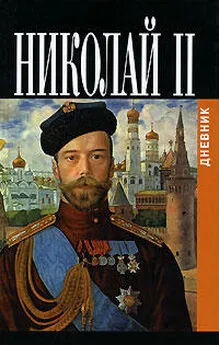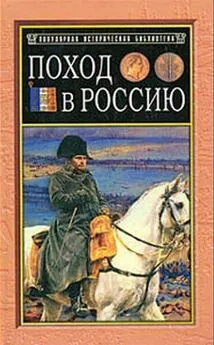Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2
- Название:Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0413-4, 978-5-9950-0415-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 краткое содержание
Впервые в полном объеме публикуются воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II А. А. Мордвинова.
Во второй части («Отречение Государя. Жизнь в царской Ставке без царя») даны описания внутренних переживаний императора, его реакции на происходящее, а также личностные оценки автора Николаю II и его ближайшему окружению. В третьей части («Мои тюрьмы») представлен подробный рассказ о нескольких арестах автора, пребывании в тюрьмах и неудачной попытке покинуть Россию. Здесь же публикуются отдельные мемуары Мордвинова: «Мои встречи с девушкой, именующей себя спасенной великой княжной Анастасией Николаевной» и «Каким я знал моего государя и каким знали его другие».
Издание расширяет и дополняет круг источников по истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.
Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но если она не умела подходить к людям, то подойти к ней и найти у нее быстрый искренний отклик мог легко всякий, в ком она, довольно чуткая на этот счет, не подозревала ни малейшей хитрости.
Один очень опытный дипломат, иностранец (фамилию его я теперь забыл) всегда утверждал, что «для всякого наблюдательного человека ясно, что ключ как к внешней, так и к внутренней политике находится всегда лишь в «высшем свете» всякой страны».
Если и не во всех, то в большинстве случаев подобное утверждение является совершенно верным и для моей Родины. Ключ к тогдашней политике и тогда не находился в руках одинокой государыни, а скрывался в обширных слоях тогдашнего русского общества, уже охваченного давно смутою.
Глава его – наш «высший свет» – не любил императрицу почти с самого начала, еще мало зная ее, и императрица, за исключением немногих людей, перестала в конце концов любить наше тогдашнее общество. Она слишком часто чувствовала их легкомыслие и неискренность в малом, чтобы верить в их искренность и мудрость в большом. Стоит только прочесть записи дневника г-жи Богданович, чтобы понять, насколько суждения этих людей и о ней, и о государе ей не могли казаться привлекательными. Расхождение, как я сказал, началось давно, и причин для этого расхождения для обеих сторон было много; о них можно было бы написать целую толстую книгу. Главными, конечно, были несправедливые нападки не только на императрицу и государя, но и на наш исторический, приноровленный к особенностям русского государства строй. Но как бы ни судить о причинах возникновения смуты, приходится признать, что эта смута получила всю свою силу лишь тогда, когда она сумела затуманить сознание и высшего слоя столицы, и стоявших во главе войск генералов, и высших сановных гражданских лиц. Лишь только под напором именно этого авторитета она смогла столь укрепиться и в более низших слоях.
Постепенная замкнутость семьи государя произошла не только от высшего общества, но затем и от большинства остальных членов императорской фамилии. И об этих взаимоотношениях тонкий психолог мог бы написать целую книгу. Скажу только, что большинство родственников соприкасалось с царской семьей не чаще, а благодаря неудовольствию на многих из них государя даже реже, чем кто-либо другой. За такую отчужденность больше всего обвиняли императрицу, и в последние годы войны редко кто из семьи относился к ней с теплым чувством, выдумывая и распространяя о ней, как и остальные, всякие небылицы и подозревая во всем…
«В сущности, мы только одни из семьи любим Аликс», – говорила как-то великая княгиня Елизавета Маврикиевна своему мужу, великому князю Константину Константиновичу, тогда уже тяжко больному. И он кивнул ей утвердительно головой. Они, конечно, немного ошибались. Кроме них, императрицу любили и великая княгиня Ольга Александровна, Димитрий Константинович, отчасти великий князь Павел Александрович и довольно долго и мой великий князь Михаил Александрович.
Но простые смертные, немногие, кому удавалось в те дни подходить к ней, хотя бы ненадолго, возможно близко, начинали сейчас же ее искренне любить и уважать. Таких людей было мало: несколько десятков раненых офицеров и солдат из ее лазаретов, кое-кто из дворцовой прислуги и служащих в ее санитарных поездах и других учреждениях, связанных с ее именем и ее непосредственной деятельностью.
Правда, эти люди все были незначительны по своему положению, и их восторженное отношение заглушалось почти всеобщей враждебностью остальных. Но они были осколком с того же самого русского общества, со всеми его достоинствами и недостатками, имевшими только счастливую возможность ближе узнать государыню, а узнав ее ближе, лучше и оценить.
Как все могло бы быть иначе, если бы такая возможность была предоставлена и остальным!
О каком-то сильном немецком влиянии, существовавшем якобы при Большом Дворе у нас до войны, совершенно не говорили, да и смешно было бы о нем говорить. Надо было слышать интонацию голоса государя, когда он говорил о преимуществах всего русского, или видеть, с какой привязанностью относилась императрица к России и нашим русским обычаям, чтобы убедиться, что такого влияния не могло существовать.
Но с началом войны в числе многих небылиц распространился нелепый слух о наличности тайной немецкой партии, руководимой императрицей. Никто, конечно, не задавал себе вопроса, что если такой партии не могло образоваться в мирное время, то каким образом она могла вдруг появиться во время войны, когда быть «немцем» или приверженцем немцев в те дни было самым невыгодным, бросавшим на себя тень, а кто из придворных или особо влиятельных, даже носящих немецкую фамилию, смог бы решиться на такое самоунижение. Было поэтому много лиц не придворных, переменивших свои немецкие фамилии на выдуманные русские. В России было действительно всегда много, как в войске, в гражданской службе, так и при Дворе, людей немецкого происхождения, в особенности балтийцев. За ничтожным исключением все они многими поколениями сжились с Россией, считали ее искренно своей Родиной и остались ей и трону верными до конца войны. Пролитая ими обильно кровь за российское государство и за своего императора наглядно доказывала как их верность своему долгу, так и горячую привязанность к Родине. Вместо признательности, как известно, коснулось и этих людей неразборчивое подозрение. Государыня и государь это чутко сознавали. Им были неприятны огульные преследования в большинстве невинных людей, и они не раз высказывали раздражение на драконовские меры, принятые в этом отношении ставкой великого князя Николая Николаевича. Для них и во время войны все верные подданные были равны, несмотря на их нерусские фамилии. В угоду молве они не удалили этих верных престолу людей из своей ближайшей свиты, но это, конечно, не значило, что они подпали под их «тонко скрытое немецкое влияние». Их раздражение на Германию, начавшую войну, было велико и порою доходило до мелочей. Я вспоминаю, как в первые же дни императрица приказала всей дворцовой прислуге «немедленно снять все Гессенские ордена и медали», не говоря уже об остальных германских знаках отличия. Ее отношение к попыткам Германии через ее брата, Машу Васильчикову и датского деятеля заключить сепаратный мир, уже известно теперь всем – оно было не менее стойким по верности союзникам, как и у ее супруга.
Мне многое хотелось бы еще сказать о бедной дорогой государыне, уже теперь многими из русского простого народа за ее страдальческую судьбу и горячую веру приравненную к святым. Но мои лирические строки вряд ли кому будут нужны, кроме меня самого.
Скажу только, что превратные русские суждения того времени сказались превратными толкованиями и у иностранцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: