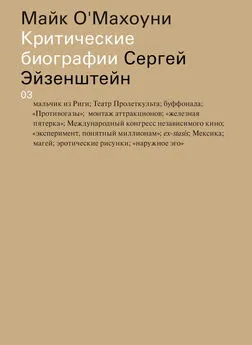Майк О'Махоуни - Сергей Эйзенштейн
- Название:Сергей Эйзенштейн
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАд маргинемfae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-282-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майк О'Махоуни - Сергей Эйзенштейн краткое содержание
Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898–1948) считается одним из величайших режиссеров мирового кино за все время его существования. Кроме того, за последние десятилетия его фигура приобрела дополнительные измерения: появляются все новые и новые материалы, в которых Эйзенштейн предстает как историк и теоретик кино, искусствовед, философ, педагог, художник.
Работа британского исследователя Майка О’Махоуни представляет собой краткое введение в биографию этого Леонардо советской эпохи. Автор прежде всего сосредоточивает внимание на киноработах режиссера, на процессе их создания и на их восприятии современниками, а также на политическом, социальном и культурном контексте первой половины XX века, без которого невозможно составить полноценное представление о творчестве и судьбе Эйзенштейна.
Сергей Эйзенштейн - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сценарий «Бежина луга» был написан Александром Ржешевским, опиравшимся на одноименный рассказ Ивана Тургенева. Ржешевский перенес действие рассказа в современность, а главным действующим лицом сделал юного пионера, чей образ был явно списан с советского героя-подростка Павлика Морозова. В 1932 году тело Павлика Морозова нашли в лесах близ деревни Герасимовка. Его убили его же родственники в отместку за то, что тот донес на собственного отца. Как отмечала Катриона Келли, убийство Павлика Морозова не было единичным случаем в раннесовесткое время, и не одно оно привлекло внимание широкой общественности [202]. Однако в последующие два года фигура Павлика обросла настоящим культом с легкой подачи Максима Горького. В то же время литературу, театр, живопись, скульптуру, музыку и кинематограф захватила тема детства. Дети как символ светлого будущего советского народа стали неотъемлемым атрибутом официально утвержденного метода соцреализма.
«Бежин луг» представлялся Эйзенштейну идеальной возможностью восстановить репутацию в глазах властей. Во-первых, в нем он мог снова раскрыть конфликт между современностью и традициями, затронутый им в «Старом и новом», и продемонстрировать, что он научился на указанных критиками ошибках. Во-вторых, фокус на центральном персонаже (названном в сценарии и фильме Степком), а не на массах, послужил бы доказательством состоятельности Эйзенштейна как режиссера-соцреалиста. Как писал позже Шумяцкий, «Бежин луг» дал Эйзенштейну возможность «повернуться лицом к новым требованиям, которые в огромной степени возросли за годы его долгого творческого молчания» [203]. Но главным образом на руку Эйзенштейну должен был сыграть идеологический посыл фильма, а именно – восхваление непоколебимой верности государству. В разгар сталинских репрессий для Эйзенштейна, несомненно, важно было продемонстрировать свою приверженность политическому курсу.
Как подтверждение решительного разрыва со своими прошлыми методами, в этот раз Эйзенштейн нанял на главные роли профессиональных актеров – очевидно, в ответ на прошлую критику его внимания при выборе исполнителей к типажам, а не личностям. И все же роль Степка досталась никому не известному крестьянскому мальчишке Вите Карташову, выбранному из более чем двух тысяч кандидатов. В мае, после того как сценарий прошел цензуру, начался съемочный процесс. Съемочная группа включала Перу Аташеву, занявшую позицию помощника режиссера вместо Александрова, и четырех студентов Эйзенштейна из ГИКа, в том числе американца Джея Лейды, в обязанности которого входило ведение дневника съемок и фотосъемка [204]. Несмотря на свои изначальные намерения, на съемочной площадке Эйзенштейн быстро вернулся к импровизационной манере работы. Лейда вспоминал:
«Я не раз замечал, что проходил полный съемочный день, а Эйзенштейн ни разу даже не заглядывал в сценарий – он полагается на силу внутренних образов, которые всегда с ним. Он говорит, что все планы нужны для того, чтобы подготовить человека к новым идеям, которые приносит каждый новый рабочий день» [205].
Не удержался режиссер и от поэтической символики, жестоко раскритикованной в прошлом. Первым же делом он снял крупные планы цветущих деревьев в саду в Коломенском; этот ряд кадров, напомнивший окончание «Сентиментального романса», Лейда назвал «прологом памяти Тургенева»:
«Первые кадры были сняты с пониманием места Тургенева в истории литературы и искусства и его вклада в нее. После окончания эпохи романтизма Тургенев обратился к импрессионистам, а те, в свою очередь, вдохновлялись японскими гравюрами; благодаря Тургеневу импрессионизм пришел в литературу, и именно этому посвящен этот эпизод» [206].
Возможно, этот эпизод отвечал всем замыслам Эйзенштейна, но едва ли идеологической канве фильма – как и его идеи аудиовизуального монтажа. Вспоминая экспериментальные приемы, задуманные им для «Золота Зуттера», в одной сцене он хотел сделать так, чтобы голоса разгневанных крестьян перерастали в вой сирены. На протяжении фильма он неоднократно вставлял прямые отсылки к своим прошлым работам. К примеру, сцена разрушения церкви, в которой несколько крестьян с любопытством рассматривают иконы, церковные облачения и прочую утварь, буквально копирует аналогичную сцену из «Октября». К этой же ранней работе отсылают кадры, на которых мальчик примеряет слишком большую для него корону, вызывая ассоциацию с мальчиком на троне в заключительном эпизоде «Октября». Символическое использование тьмы и света, в том числе нимбообразное свечение над головой Степка, также отсылает зрителя к «Октябрю» и «Старому и новому», а эксперименты с глубиной резкости свидетельствуют о прежнем интересе Эйзенштейна и Тиссэ к широкоугольным объективам. Похоронная процессия в начале фильма напоминает пролог «Да здравствует Мексика!», а в эпизоде, где мальчик вертит в руках и передразнивает череп, неизбежно вспоминается эпизод Дня мертвых. Даже в сцене с тушением пожара есть отсылки к «Стачке». Чем дольше шли съемки, тем яснее становилось, что Эйзенштейн собирается исполнять далеко не все требования соцреализма.
В начале 1936 года культурная политика страны ужесточилась еще сильнее, когда была запущена очередная кампания против формализма в искусстве. В январе в «Правде» появилась первая из нескольких статей, атакующих Дмитрия Шостаковича, за ними последовали нападки на других заметных деятелей, среди которых оказались художник Павел Филонов и писатель Михаил Булгаков. Самой тревожной для Эйзенштейна оказалась критика его старого учителя, Всеволода Мейерхольда. Под конец съемок «Бежина луга» Эйзенштейн показал отснятый материал Шумяцкому, и тот остался недоволен. Шумяцкий заявил, что Эйзенштейну не удалось должным образом показать классовую борьбу в деревне, что он слишком много внимания уделил личным отношениям отца и сына и позволил себе слишком много библейских и мифологических аллюзий [207]. Явно задетый, Эйзенштейн все же стойко вынес критику. Он нанял нового сценариста, Исаака Бабеля, заменил некоторых актеров и исключил наиболее рискованные моменты. Делая перерывы по состоянию здоровья, Эйзенштейн продолжал работать над «Бежиным лугом» до марта 1937 года, когда неожиданно официальным приказом съемки были прекращены. Спустя два дня в «Правде» напечатали статью Шумяцкого, в которой он заявил, что Эйзенштейн отнесся к материалу «субъективно и произвольно» [208]. Вместо того чтобы продемонстрировать «борьбу остатков классово враждебных элементов против создания новой жизни», писал Шумяцкий, Эйзенштейн показал «подлинную вакханалию разгрома» и сделал «колхозников вандалами» [209]. Фильм, по словам автора статьи, вышел «антихудожественным и политически явно несостоятельным» [210]. Так «Бежин луг» оказался под запретом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: