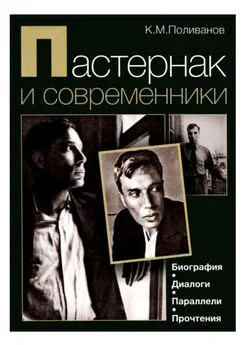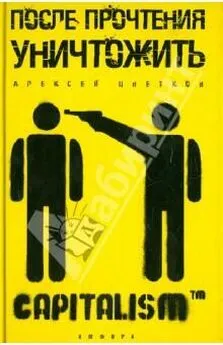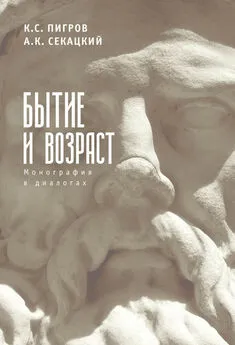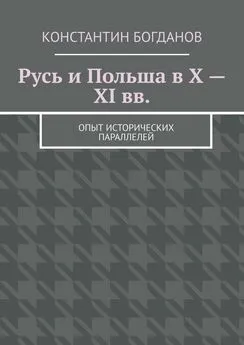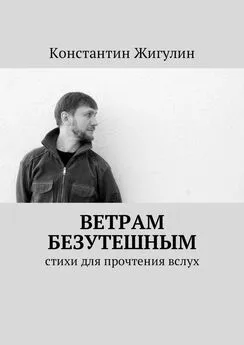Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
- Название:Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-7598-0361-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения краткое содержание
В сборник включены работы, посвященные биографии и творчеству Бориса Пастернака, исследованию связей его творчества с эпохой, современниками, предшественниками. Читателям предлагаются интерпретации стихотворений, малоизвестные факты биографии, рассматривается отражение в литературных произведениях отношений Пастернака и Цветаевой, Маяковского, Ахматовой и Мандельштама. Все работы основаны на принципе пристального чтения произведений Пастернака на фоне его биографии, творчества, современной и предшествующей поэзии.
Для филологов и историков русской культуры, а также для всех интересующихся русской литературой XX века.
Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта ситуация в какой-то степени аналогична той, которую описал в своей блестящей работе А. Лавров, показавший, что стихотворные тексты А. Белого сначала могли послужить для Пастернака своеобразным «сценарием» реальных обстоятельств марбургского лета 1912 года, а затем оказать влияние на изображение событий собственной жизни в стихотворении «Марбург» и в «Охранной грамоте» [149].
И. П. Смирнов в своей книге «Порождение интертекста» формулирует принцип, согласно которому обращение к «претексту» в творчестве писателя непременно должно повторяться. Не утверждая его бесспорности, отметим, что отзвук «Серебряного голубя» можно предположить в «Докторе Живаго». Местечко, где встречаются в госпитале во время Первой мировой войны Живаго и Лара (сестра Антипова), названо Мелюзеево. В этом названии соблазнительно расслышать отзвук села Целебеева из «Серебряного голубя», причем корень «целеб» объяснял бы, почему Пастернаку вспомнилось это название в связи с госпиталем. Если наше предположение верно и связь Целебеева – Мелюзеева существует, то это еще раз косвенным образом подтверждает и справедливость предположения о связи «Сестры моей – жизни» и «Серебряного голубя». В работе исследовательницы Э. Лихт было показано, что Мелюзеево в романе «Доктор Живаго» гораздо больше напоминает места, где сам Пастернак провел лето 1917 года – городки Тамбовской и Саратовской губерний – Мучкап и Балашов, чем местечки прифронтовой полосы, где должны были бы оказаться Юрий Андреевич и сестра Антипова. Соответственно, если мы предполагаем, что эти места уже когда-то вызвали у автора «Сестры моей – жизни» ассоциации с «Серебряным голубем», то эта же ассоциация вполне закономерно могла вновь всплыть через три десятилетия.
«Воробьевы горы» Пастернака и традиция русского шестистопного хорея
Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.
Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.
Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
Стихотворение «Воробьевы горы» из «Сестры моей – жизни» неоднократно привлекало внимание исследователей пастернаковской поэзии, подробно его разбирали Nils Ake Nilsson («It is the World’s Midday»: Pasternak’s poem «Sparrow Hills» // Russian Literature. 1992. XXXI) и A. K. Жолковский в статье «Грамматика любви». Позволим привести здесь изложение содержания стихотворения, сделанное М. Л. Гаспаровым: «Тема стихотворения – надо наслаждаться любовью, пока не кончились лето, молодость, праздник». М. Л. Гаспаров описывает развертывание темы по строфам следующим образом: (1) будем наслаждаться, молодость («лето») не вечна; (2) старость страшна – (3) поэтому будем счастливы сегодняшним днем («это полдень мира»); (4) Воробьевы горы – лучшее место для этого – (5) и не случайно, а в лад всему мироустройству. От начала к концу усиливается мотив божественности природного мира: (1) обезбоженный быт (не случайна двузначность прилагательного «низкий»), (1) обезбоженная природа, (3) мысли – ввысь, и там – стихия того же леса, (4) переход из мира культуры в мир природы (не случайны двузначности: «служат сосны» – как трамвайщики или как священники? – «воскресенье» – выходной день или возрождение к жизни?), (5) этот мир природы создан таким свыше (не случайны две последовательности образов от «высших» к «низшим»: «полдень, Тройцын день, гулянье» и «чаща, поляна, мы, <���простонародные> ситцы») – то ли извне («пролит с облаков»), то ли самопроизвольно («задуман чащей» и т. д.). Вертикальные движения взгляда вверх (3) и вниз (5), может быть подсказаны зрелищем с Воробьевых гор вниз, на Москву. В лексике соседствуют приметы высокого слога: «влечем», «прорицанья», «звездАм» и «пресЕклись» (ударение), «вскинуть», – с приметами разговорного – «рукомойник», «где глаза твои?», «дальше им нельзя», «Тройцын» (вместо Троицын).
Ниже мы попробуем, опираясь на выявление используемых Пастернаком культурных и литературных традиций, объяснить появление тщательно проинтерпретированных А. К. Жолковским пронизывающих весь текст стихотворения эротических мотивов – от «сексуального буйства молодости», «страха перед старческим бессилием» и «эпикурейской эротики жизненного полдня», которые все примиряются «верой во всемогущий мировой эрос». При интерпретации следует обратить внимание на место стихотворения в книге «Сестра моя – жизнь», значение праздника Троицы, а также на отмеченные Гаспаровым соединение высокой и разговорной лексики наряду с соседствующими и сменяющими друг друга движениями взгляда и «одухотворения» снизу вверх и обратно.
Представляется существенным и учет обнаруживаемых в тексте «Воробьевых гор» реминисценций со стихотворениями Н. Некрасова, А. Майкова, Л. Мея, Я. Полонского, К. Случевского, С. Надсона, И. Северянина и В. Маяковского, написанными шестистопным хореем. Для интерпретации стихотворения, конечно, важна и чисто биографическая подоплека: Воробьевы горы, в 1917 году пригородная местность на юго-западе Москвы, были, по воспоминаниям Елены Виноград (героини стихов «Сестры моей – жизни»), одним из постоянных мест их прогулок с Пастернаком весной 1917 года, естественно, легко можно предположить, что они были там и 21 мая, на которое приходилась в тот год Троица.
В то же время необходимо помнить, что Пастернак предлагал рассматривать «Сестру мою – жизнь» не только и даже не столько как книгу любовных стихов, а как книгу о революции, о революционном лете. Соответственно стихотворение о народном гулянье в день празднования Троицы, да еще и занимающее фактически центральное место в книге, следовало бы рассмотреть в этой смысловой плоскости. Праздник Троицы связан с сошествием на апостолов Святого Духа, после чего они получили чудесное умение проповедовать христианство на разных языках, что легко может быть сопоставлено и с революционной идеей просвещения масс, которым в результате революции открывается скрытая прежде высокая культура, и со всеми «верхне-нижними» мотивами стихотворения. Преодоление границ города – деревни, выход за пределы городской в народную или природную стихию («пресеклись рельсы городских трамваев… дальше служат сосны…») также может осмысляться в ряду «достижений» революции. Следует учесть и то, что Троица издавна была одним из праздников как в Европе, так и в России, где переплелись «высокие» христианские представления и обряды с «низкими» народными, языческими. Некоторые из последних, вплетясь в христианский ритуал, были сакрализованы (подобно «поднятому с пыли низкому реву гармоник» в пастернаковском стихотворении) – например, приносимые из-за города (!) березовые ветви (ср.: «задуман чащей» и «ветки отрывая»), которые ставились в церкви, ими украшались иконы в домах. Другие сохранялись как вовсе не церковные, но это не мешало их стойкости – ритуальная эротическая разнузданность русальной, троицкой недели (время праздника холостой молодежи) сопоставляется этнографами с соответствующими обрядами Святок (Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб., 1995. С. 137–142). Из последних для нас особенно интересны все обряды переделывания старых в молодых (Там же. С. 130), ритуальные насмешки молодежи над стариками позволяют нам связать и эротические мотивы, и мотивы противопоставления старости – молодости в пастернаковском стихотворении с описываемым народным праздником.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: