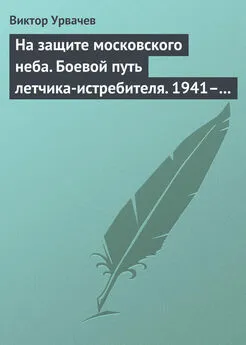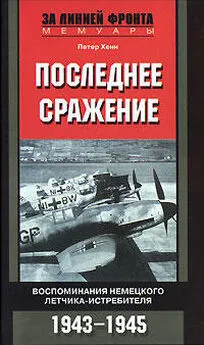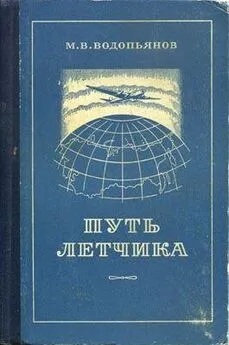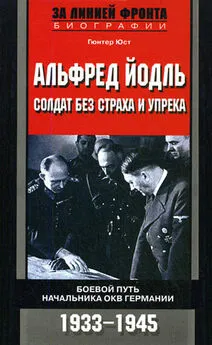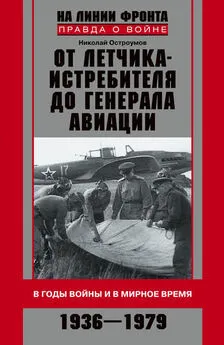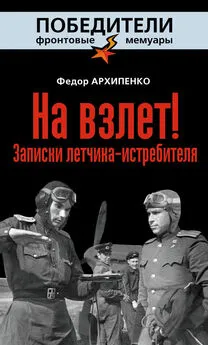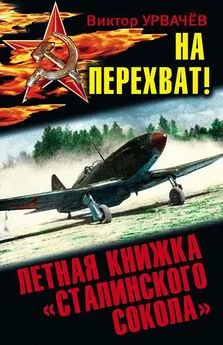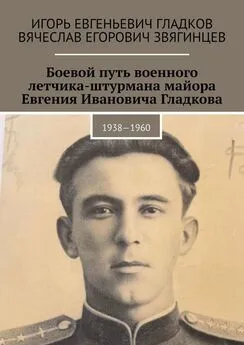Виктор Урвачев - На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945
- Название:На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-06817-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Урвачев - На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945 краткое содержание
Представленная на суд читателя книга написана сыном военного летчика Георгия Николаевича Урвачева (1920–1996) – участника войн с Германией и Японией в 1941–1945 гг., в Корее – в 1952–1953 гг. и летчика-испытателя ВВС в 1954–1964 гг. В основу книги легли записи летной книжки Г. Н. Урвачева, другие официальные документы, а также его личные воспоминания. Основная часть записок посвящена летной и боевой работе Георгия Урвачева и его друзей-летчиков из 34-го истребительного авиационного полка, который с 1938 г. входил в состав противовоздушной обороны (ПВО) Москвы, а в 1945 г. был передислоцирован на Дальний Восток, участвовал в войне с милитаристской Японией. Главным испытанием для летчиков полка стала защита неба столицы, когда они вместе с другими истребительными авиационными полками ПВО Москвы в июле 1941 г. вступили в бой с превосходящим по силе, подготовке и оснащению противником. Тем не менее они выиграли воздушное сражение в небе Москвы. Официальный боевой счет героя этой книги – 4 лично сбитых самолета противника и 7 – в группе.
На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Более тридцати лет спустя, когда настала эпоха гласности и пустозвонства, в средствах массовой информации появились сообщения, что, по американским данным, соотношение побед и поражений в воздушных боях в Корее было 20:1 в пользу летчиков США. Урвачев, узнав об этом, усмехнулся:
– Обо всей войне в Корее не знаю, но наша дивизия до моего отъезда сбила около тридцати американских самолетов и потеряла восемь своих.
– Известно, что количество побед всегда преувеличивают, иногда в разы.
– Это так, но только не в нашем случае. Были установлены немыслимо строгие требования к подтверждению сбитых самолетов, вплоть до представления их деталей с заводскими номерами для идентификации.
Кроме того, он знал о результатах воздушных боев своей дивизии, так как, по его словам, проверял пленки фотокинопулеметов (ФКП), которые летчики привозили из боя, и определял результативность их стрельбы. Кстати, с этим связан один его рассказ.
«Китайцы, которые стояли на одном с нами аэродроме, попросили помочь. Их летчики, вернувшись из боевого вылета, доложили о воздушном бое и сбитом самолете противника, но на пленках ФКП якобы ничего не было. Я в их штабе посмотрел пленку и подтвердил, что на ней действительно только серый фон и сетка прицела.
Вскоре китайцы опять обратились с такой же просьбой. На этот раз я поехал не в штаб, а на стоянку самолетов к китайским летчикам, которые вернулись из вылета. Показали мне летчика, который, как он утверждал, сбил американца. Чтобы разобраться, спросил его, с какого маневра он пошел в атаку, с какой дистанции и под каким ракурсом открыл огонь, как вышел из атаки?
Китаец отвечал толково, только о дистанции говорил как-то невразумительно: «Близко, тунжа, совсем близко. Моя стрелял, американ взорвался, его обломки попали мой самолет». На обшивке МиГа действительно были явно не пулевые отметины, и меня вдруг осенило. Я попросил лупу, через которую снова просмотрел кадры ФКП, и не поверил своим глазам, увидев… заклепки. То, что в кадре выглядело как серый фон, на самом деле было боротом самолета. То есть китаец стрелял в упор, потому что даже на близкой, по нашим меркам, дистанции атакуемый самолет целиком виден в прицеле.
Видимо, у китайца не хватало опыта, чтобы при ведении огня с большой дистанции брать упреждение и тем более работать с подвижной сеткой прицела. Но я, как летчик, не мог понять, как он смог так близко подойти к американцу, чтобы атаковать его без этих ухищрений с прицелом, вот уж действительно «китайская работа».
Тем не менее в боевой практике советских летчиков также известны случаи атаки «в упор». Старший лейтенант Федор Федотов из 518-го полка, сбив «Сейбр», вспоминал: «Когда же проявили при мне пленку ФКП, то долго искали цель. Дистанция была очень мала, самолет противника вышел размерами за кадры. <���…> В конце концов разобрались» .
Но для китайских летчиков, наверное, это был привычный тактический прием воздушного боя. Заместитель командира 18-го гвардейского полка Герой Советского Союза подполковник Александр Сморчков рассказывал: «К нам на аэродром как-то шлепнулся (приземлился. – В. У. ) китаец, выскочил из кабины <���…> кричит: «Пленка! Пленка!» <���…> Разрядили его фотопулемет, пленку проявили, а там такая «крепостина» (B-29 «Суперфортрес», «Суперкрепость». – В. У .), хоть заклепки считай!»
При этом из истории Корейской войны известно, что к осени 1952 г. китайские летчики «уже не были «мальчиками для битья», как это было раньше, приобрели боевой опыт в сражениях с американскими летчиками, и с каждым месяцем американцам победы над летчиками ОВА (китайско-корейская Объединенная воздушная армия. – В. У .) давались нелегко. Только в ноябре летчики ОВА одержали 15 побед над летчиками ООН».
Возвращаясь к «драконовским» требованиям подтверждения сбитых самолетов, следует отметить, что об этом вспоминают многие участники войны в Корее, например летчик 518-го иап капитан Михаил Михин, который на той войне стал Героем Советского Союза: «Для подтверждения факта уничтожения самолета нужно было располагать неопровержимыми доказательствами. Одних лишь снимков положения атакуемой цели в своем прицеле было недостаточно. Нужны были свидетельства очевидцев, а идеальный вариант – деталь со сбитого самолета, на которой должен быть заводской номер».
Михин и его однополчанин – ас Корейской войны капитан Николай Замескин вспоминают, что из-за этих требований случилось небывалое: « По нашим данным, летчиками полка <���…> был сбит 31 и подбито 25 истребителей противника. Американцы же оценивали наши победы выше: 35 сбитых самолетов» . Это уникальный случай, поскольку, по мнению специалистов, практика учета боевой летной работы свидетельствует, что «количество побед любой участвовавшей в боях стороны всегда значительно превышает реальные потери, понесенные противником. Это можно считать законом».
Известно также, что летчикам не засчитывали сбитые самолеты, если они упали в реку Ялуцзян, а тем более в Корейский залив: нет обломков, значит, нет и сбитого самолета. Такие самолеты в лучшем случае заносились штабистами в графу «подбитые», а платили и награждали только за сбитые.
Историк и публицист Ю. И. Мухин так прокомментировал гомерические победы американской авиации: «Американцы пишут (Энциклопедия авиации. Нью-Йорк, 1977), что их летчиками во время войны в Корее было сбито 2300 «коммунистических» самолетов, а потери американцев и их союзников составили всего 114 самолетов. Соотношение 20:1». Однако при этом «служба спасения 5-й американской воздушной армии, воевавшей в Корее, сообщает, что ей с территории Северной Кореи удалось выхватить более 1000 человек летного состава американских ВВС. А ведь это только те, кто не погиб в воздушном бою и кого не успели пленить северные корейцы <���…>. Это что, со 114 самолетов столько летного состава нападало?»
Кроме того, возможно, одной из причин завышения американцами количества своих побед в воздухе являлась необыкновенная живучесть МиГов, о которой докладывал командир 64-го иак: «В воздушных боях с американскими самолетами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, самолет МиГ-15 устойчив против разрушения и возникновения пожара в полете. Двигатель продолжает работать безотказно при серьезных повреждениях его агрегатов. Отдельные самолеты в боях получали до 30–50 пулевых пробоин и благополучно возвращались на аэродром».
Это хорошо показал воздушный бой 16 сентября, в котором командир эскадрильи 224-го полка майор Петр Каратаев в паре со своим замполитом Кудряшовым, прикрывая передовой аэродром Аньдун, открыл боевой счет 32-й дивизии – сбил F-86. Но он тут же попал под удар двух других «Сейбров». Его самолет получил 120 (!) пробоин, было повреждено управление, заклинило тормозные щитки, взорвался керосиновый бак, половина лопаток турбины была выщерблена, остекление кабины выбито. Каратаев мог покинуть самолет, но не сделал этого и потом объяснил: «Летит. Не падает. Зачем прыгать? В бронезаголовник, правда, стучат (пули. – В. У. ) , но не пробивают» — и посадил самолет со спущенными покрышками колес шасси на аэродроме Догушань, где стояли китайцы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: