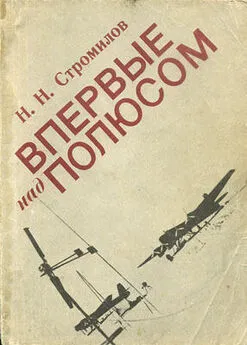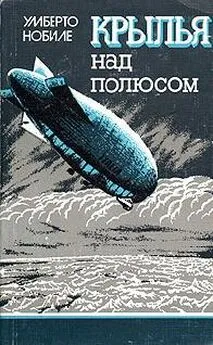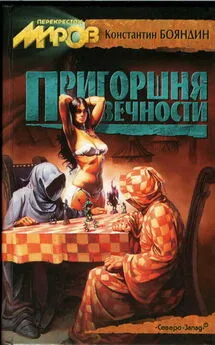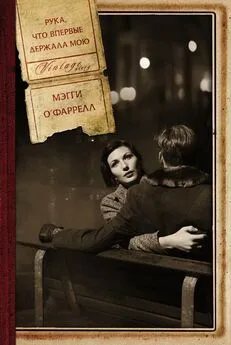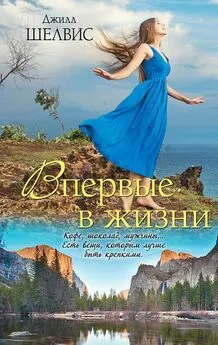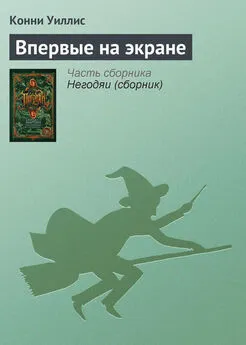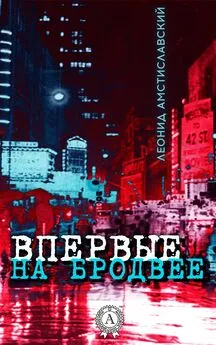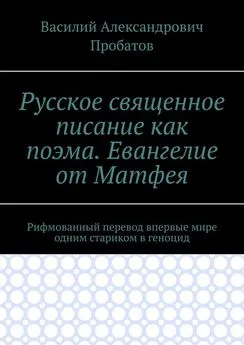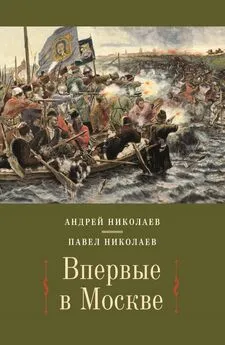Н. Стромилов - Впервые над полюсом
- Название:Впервые над полюсом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гидрометеоиздат
- Год:1977
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Стромилов - Впервые над полюсом краткое содержание
В 1977 г. исполняется 40 лет с момента высадки на дрейфующие льды советской научной станции «Северный полюс 1». Казалось бы, что нового можно сказать об этом выдающемся событии, которому посвящена обширнейшая литература?Оказывается, можно. Многие ли знают, что прежде чем в районе Северного полюса сели четыре тяжелые машины, над полюсом пролетал маленький самолет-разведчик? Бортрадистом этого первого советского самолета над полюсом и был автор предлагаемой книги. Он же был одним из создателей радиостанции «Дрейф», связывавшей папанинцев с миром. За участие в подготовке и обеспечении работы папанинской экспедиции Н. Н. Стромилов был награжден орденом Ленина.Книга рассчитана на самые широкие круги читателей, и прежде всего — на молодежь.
Впервые над полюсом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
3 мая Головин получил задание: выяснить, имеются ли в районе полюса ледяные поля, пригодные для посадки тяжелых самолетов, а также уточнить условия погоды для сопоставления их с данными прогноза. Нужно было также проверить поведение ряда навигационных приборов и установить, как далеко слышен радиомаяк Рудольфа: предполагалось, что пользоваться им можно будет на расстоянии, не превышающем 500 километров, в то время как до полюса было более 900.
С этого момента взоры нашей пятерки обратились на синоптика экспедиции Б. Л. Дзердзеевского. Был Борис Львович красив, высок и широкоплеч. Вежлив и остроумен. Носил черную бородку, за что, наверное, и получил прозвище Мефистофеля. Не было у него помощников, кроме радистов, принимавших исходную информацию, необходимую для составления прогнозов, - сводки от большого числа метеостанций. Сам наносил данные на карты, сам «крутил» на них изобары, сам составлял прогнозы и сам давал синоптические консультации. Все сам. Не человек, а бюро погоды.
Главное, однако, заключалось в, том, что его прогнозы, как правило, оправдывались. И в том, что Дзердзеевский никогда не темнил: всегда было понятно, можно лететь по такому-то маршруту или нельзя. Впрочем, мы, радисты, нередко догадывались об этом сами, еще до появления на свет божий официальных прогнозов. Каким образом? Расскажу. Дзердзеевский любил музыку, был музыкален и, работая, приятным баритоном негромко напевал арии из опер, песенки из кинофильмов и т. п. И вот, часто общаясь с Дзердзеевским, мы заметили: если предстоит нелетная погода, из уголка радиорубки, где расположился синоптик, доносится «Что наша жизнь… игра…», если же есть виды на хорошую погоду - «Широка страна моя родная…». Накопить статистические данные и сделать вывод из этой «научной» работы большого труда не составило. Многие товарищи поражались осведомленности радистов в делах погоды. Мы же свою маленькую тайку охраняли тщательно: боялись насторожить Дзердзеевского и лишиться информации, которая сейчас называется опережающей.
Вечером 4 мая мы с Егорычем зашли к синоптику. Еще на пороге нас встретил обнадеживающий мотив чудесной песни Дунаевского, а через минуту Дзердзеевский сообщил Головину о быстром улучшении погоды.
Руководство экспедиции намечает наш вылет на утро 5 мая, и экипаж получает указание отдыхать. Но, как всегда, перед полетом это трудно сделать.
* * *
Раньше других поднялся Егорыч и разбудил остальных. На одежду в этот день обратили особое внимание: ведь предстояло добрых десять часов лететь в необогреваемом самолете. Типовая форма одежды (с индивидуальными отклонениями) состояла из шерстяного белья, толстого свитера, меховых комбинезона и рубашки, шерстяных носков, собачьих чулок, нерпичьих торбазов, шерстяных перчаток, просторных меховых варежек и мехового шлема. «Наряд» летчика и штурмана дополняли пыжиковые маски, очки и огромные меховые шубы.
После плотного завтрака отправились на вездеходе на основной аэродром. Очистили от снега самолет, прогрели моторы нашим «примусом». Доложили о готовности к полету.
Было очень тихо. И вдруг в тишине нежная птичья трель: недалеко от самолета на заструге сидела пуночка. Крепко грело солнце. Закрыв глаза, можно было подумать, что находишься в подмосковном лесу, что стоит опуститься на колени, как тебя окутает высокая, густая, душистая трава. Но здесь были неумолимые восемьдесят два градуса северной широты, а в девятистах километрах к северу, там, где пересеклись все меридианы, - точка, которая веками приковывала к себе внимание человечества и стоила жизни многим, рискнувшим на нее посягнуть. Точка, которой сегодня очень хотим достигнуть мы, советские люди!
Традиционное короткое совещание у самолета. Кекушев запускает моторы. Все звонче становится их песня и переходит в рев: Кекушев прибавляет газ. Рев усиливается и вдруг затихает: моторы работают на малых оборотах. Это сигнал для остальных членов экипажа: прощаемся с товарищами, которые пришли нас проводить, и руководителями экспедиции и быстро забираемся в самолет. Нужно торопиться: небо на севере безоблачное, но над островом начинают появляться небольшие облака. Как бы не затянуло аэродром.
Впереди вижу уже усевшегося на свое место около панели с приборами Кекушева. Терентьев, послав мне воздушный поцелуй, задраивает над моей головой крышку люка. Сам через соседний люк тоже забирается в самолет и с удобством располагается на груде предметов экспедиционного снаряжения. Все на местах.
Егорыч прибавляет газ и, работая рулем поворота, пытается сорвать с места машину с примерзшими лыжами. Не удается. Тогда на помощь приходят провожающие - раскачивают хвост самолета, и мы плавно трогаемся с места.
Самолет на старте. Рев моторов, рывок! Первая попытка поднять в воздух предельно нагруженную машину (полетный вес около семи тонн) не удается. Снова на старт.
В 11 часов 23 минуты взлетаем. Делаем круг над аэродромом. Попадаем в тонкий слой облачности. Выходим из него и ложимся на пятьдесят восьмой меридиан. Вдоль него летим на север. Быстро устанавливается связь с Рудольфом: на вахте Богданов. Прошу включить радиомаяк. «Вас понял, - говорит Богданов. - Слышу хорошо. Включаем маяк. Летите спокойно». И после этих слов Богданова действительно становится как-то спокойнее: следит за нами хорошо знающий свое дело человек, который в условиях любых помех выполнит свою скромную (но такую важную!) обязанность - примет от самолета каждое слово, каждый знак.
Перестраиваю приемник на волну маяка: с одинаковой громкостью слышны буквы «А» и «Н», значит, идем точно на север.
Мы понимаем условность выражения «точно» в данном случае, так как знаем, что ширина равносигнальной зоны, в которой буквы «А» и «Н» слышны одинаково, будет увеличиваться по мере удаления от Рудольфа и в районе полюса достигнет примерно шестидесяти километров.
Около Рудольфа много воды, мало льда. По мере продвижения к северу льда становится больше.
* * *
Не только с Земли Франца-Иосифа пытались люди достигнуть полюса. Мы пролетаем широту 83є20'. Ее с невероятными трудностями в 1876 году достигла на санях, запряженных собаками, группа англичанина Р. К. Маркема из экспедиции Дж. Нэрса, базировавшейся на суда «Алерт» и «Дискавери» вблизи Земли Гранта. Похоронив одного человека (почти все остальные были больны, цингой), Маркем повернул на юг.
* * *
Проходим восемьдесят пятый градус. Под нами, насколько хватает видимости, расстилаются ледяные поля, прорезанные черными языками трещин и разводий, вытянувшихся с востока на запад (это значит, что последнее время преобладали северные или южные ветры). То и дело пролетаем над районами сильно всторошенного льда. Лед толстый. С высоты полутора тысяч метров хорошо видны торцы стоящих почти вертикально обломков ледяных полей и отбрасываемые ими причудливые тени. Однако ровных ледяных полей больше. В непосредственной близости к архипелагу встречались айсберги. Сейчас их нет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: