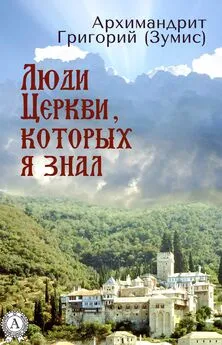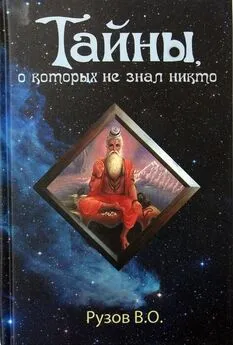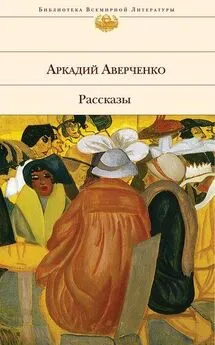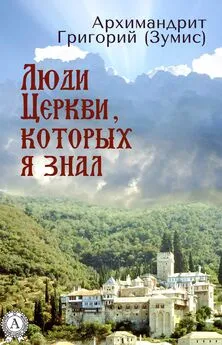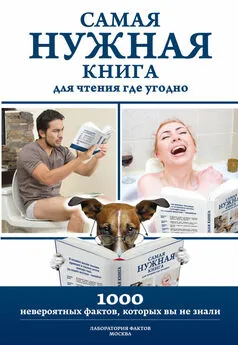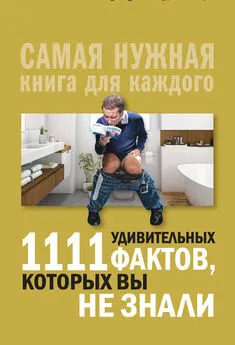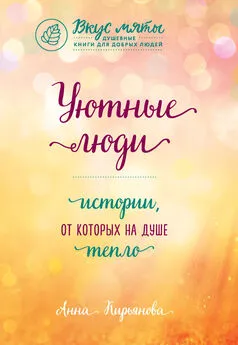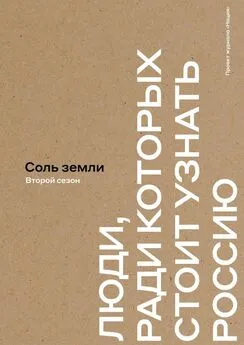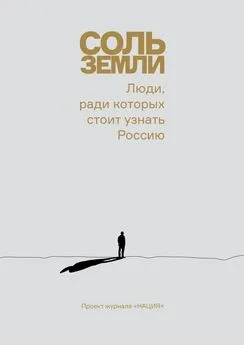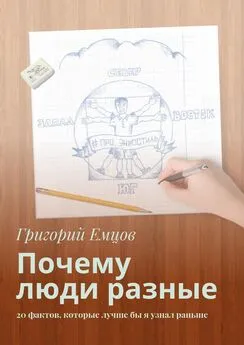Григорий Зумис - Люди Церкви, которых я знал
- Название:Люди Церкви, которых я знал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мультимедийное издательство Стрельбицкого
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Зумис - Люди Церкви, которых я знал краткое содержание
Книга игумена афонского монастыря Дохиар архимандрита Григория (Зуми́са) написана в традиции патерика. Старец рассказывает о подвижниках – «людях Церкви» – монахах и мирянах, с которыми ему довелось встречаться в детстве, юности, а также за долгие годы своего монашества. Воспоминания известного афонского духовника написаны живым, образным языком, в них много глубоких размышлений о духовной жизни, о путях спасения. Книга несомненно будет интересна и важна для читателей, взыскующих Господа.
Люди Церкви, которых я знал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Она не села, чтобы выслушать разрешительную молитву, считая себя недостойной прощения. Она распахнула дверь и с рыданиями выбежала, не чувствуя никакого стыда перед смотревшими на неё паломниками. В монастырской гостинице она ночевать не стала. Один из монастырских работников сказал духовнику:
– Какая-то женщина сидит за воротами и не хочет заходить.
– Если там ей спокойнее, то не трогай её.
Когда рассвело, она ушла в долину к своей семье с горечью и вздохами.
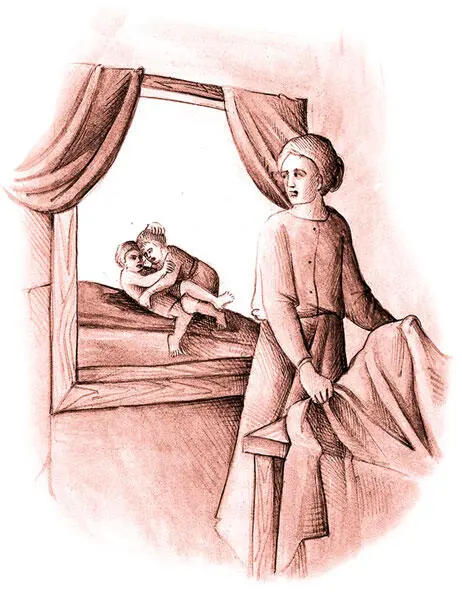
Учительница, противившаяся воле Божией
Духовники поощряют своих чад к рождению детей как к одному из путей спасения. Из-за этого они часто кажутся выходцами из другой эпохи, не понимающими действительности. Поэтому современные люди, всё-таки желающие исповедоваться и причащаться, избегают одного духовника и ищут другого, который не станет касаться больной темы контрацепции. Сегодня самые разные христиане то ли по причинам экономическим, то ли по причине занятости, из-за которой не могут заниматься воспитанием детей, то ли из-за каких-либо болезней часто не хотят иметь детей и этим сами лишают себя радости патриарха Иакова, у которого было двенадцать сыновей. Как будто в прежние времена муж и жена не трудились на суше и на море ради насущного хлеба! Закаты и рассветы заставали женщину на кухне, когда она месила тесто, пекла хлеб, стирала (в те времена ни одна женщина не стирала днём), занималась рукоделием или наводила в доме порядок. На рассвете она выходила из дома, но не в магазины, а на поля или к рыбацким лодкам и сетям. Она разделяла с мужем все его труды. А если в доме не было дедушки и бабушки, то старшие дети помогали воспитывать младших, и между ними была крепкая братская любовь. Раньше часто можно было услышать: «Я воспитал своего младшего брата», «Я воспитала свою младшую сестру», «Я очень рано стала матерью для своих братьев». Это были прекрасные, ангельские слова, в отличие от ужасных слов современной матери: «Я избавилась от своего ребёнка», – или сына: «Я не хочу других братьев».
Так и одна учительница, не имея серьёзных причин избегать деторождения (у неё и зарплата была хорошая, и в доме было кому помочь), говорила, стуча ногой по полу: «Нет, я больше не хочу детей!»
А духовник, видя такую наглость педагога, говорил ей: «Ладно, давай поговорим об этом через год. Успокойся. Никто не заставляет тебя становиться матерью».
Год пронёсся, как вода в реке. Снова наступил август. В живописном монастыре ежедневно забрасываются Христовы сети, в которые попадаются и водоросли, и плавающие по морю нефтяные пятна, и моллюски, и камни, и разная мелкая рыба. Вот и опять попался духовнику моллюск в твёрдой раковине. Она уже не говорит «нет», уже не бьёт ногой, а только плачет и всхлипывает. Но не потому, что била ногой, ропща на Самого Бога, а потому, что больше не сможет стать матерью.
«Успокойся, – говорит ей духовник. – Подождём ещё год, чтобы ты поняла, о чём стоит плакать. Не лей напрасно столько слёз».
Она ушла, не получив разрешительной молитвы. На третий год она, наконец, почувствовала свой грех, перестала бороться с духовником, научилась не бунтовать против Бога, научилась подчиняться воле Божией безропотно, чего бы ей это ни стоило. Удары судьбы сделали её уравновешенной и привели к познанию божественной истины после трёх лет духовного руководства. Как жаль, что в гордые и надменные сердца покаяние просачивается по капле!
Последнее признание
Дядя Афанасий был хорошим человеком. Он со всеми здоровался дважды, как монахи монастыря Лонговарда, которые повторяли в своём приветствии слова «благословите, благословите», чтобы человек наверняка услышал во второй раз, если не расслышит в первый. Своих родственников он любил больше, чем собственных детей. Он был щедр ко всем, был человеком «с душой нараспашку», как говорят у нас на островах Архипелага. Его мать происходила из Эноса и Айвали. Она была очень религиозна. Местом её служения Богу был храм святого Димитрия, которого она называла своим соседом. По ночам, когда были потушены все свечи, святой стучал в её окно и никогда не лишал её этого знака своего присутствия. Этот стук, как она сама сообщала, всегда был тихим. К сожалению, она быстро умерла, не успев довести до конца воспитание своих детей, из-за чего её дети удержали в своих сердцах лишь небольшие искры благочестия. Она не успела полить семена, посаженные ею в их мягких сердцах.
Афанасий работал портовым грузчиком. Он всегда был честным и почтительным, но работа в Пирейском порту [123] Пирей – пригород Афин, в котором расположен один из главных средиземноморских портов.
постепенно внушила ему гордую мысль, что он знает если не всё, то, по крайней мере, больше других. Он называл порт школой добра и зла.
– Мои глаза видели, а уши слышали такое, о чём вы, образованные, никогда не прочтёте в книгах.
Какая-то связь с Церковью у него оставалась всегда. Он никогда не богохульствовал и не развратничал. Но после того, как священник, совершивший для него собрование и освящение дома, в чём-то сплутовал (как Афанасий сам рассказывал), сердце его остыло к Церкви. Впрочем, веры своих отцов он не оставил.
Прошло много лет, и он оказался прикован к постели острой лейкемией. Лечащий врач утверждал: «Стоит прекратить переливание крови, как праздник жизни для дяди Афанасия закончится». Как хороший родственник, я навещал его каждый вечер – малое воздаяние за его любовь ко мне. Как-то раз его дети задержали меня у входа в клинику и попросили меня уговорить его исповедаться.
– А почему вы сами этого не скажете?
– Манолис, ты ведь знаешь, какая у него немощь…
– Дядя, кровь останавливается и скоро твоя жизнь закончится.
– Я это знаю, сынок.
– Думаю, что тебе пора исповедаться и причаститься. Подумай, как ты предстанешь Господу в таком состоянии?
– Быстрее приведи ко мне духовника, я сделаю всё, что нужно.
Недалеко от больницы находится храм святого Спиридона, в котором тогда служил священником один молитвенник и удивительный учитель благочестия. Его проповеди всегда меня трогали: он умел донести свои слова до сердец слушателей. Его слово было свежим и благоуханным, как свежеиспечённый пшеничный хлеб, наполняющий весь дом своим ароматом. Оно вселяло в сердца покой, подобный первой росе, выпадающей на рассвете августовского дня. Ах, если бы он и теперь был жив! Мы слушали бы из его золотых уст евангельское учение. Но он рано оставил свой приход, став митрополитом на острове Хиос. Да пошлёт нам Христос больше таких священников, каким был отец Хризостом Ялуридис!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: