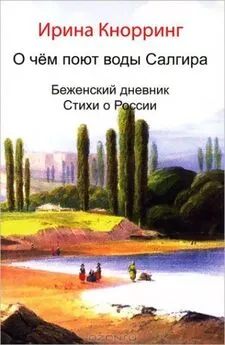Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2
- Название:Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0434-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2 краткое содержание
Дневник поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг (1906–1943), названный ею «Повесть из собственной жизни», публикуется впервые. Второй том Дневника охватывает период с 1926 по 1940 год и отражает события, происходившие с русскими эмигрантами во Франции. Читатель знакомится с буднями русских поэтов и писателей, добывающих средства к существованию в качестве мойщиков окон или упаковщиков парфюмерии; с бытом усадьбы Подгорного, где пустил свои корни Союз возвращения на Родину (и где отдыхает летом не ведающая об этом поэтесса с сыном); с работой Тургеневской библиотеки в Париже, детских лагерей Земгора, учреждений Красного Креста и других организаций, оказывающих помощь эмигрантам. Многие неизвестные факты общественной и культурной жизни наших соотечественников во Франции открываются читателям Дневника. Книга снабжена комментариями и аннотированным указателем имен, включающим около 1400 персоналий, — как выдающихся людей, так и вовсе безызвестных.
Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как и ждала, оно было встречено сочувственно. Фохт отметил этот период в творчестве и приветствовал его. Ладинский сказал, что «Ирина Кнорринг вышла из своей девичьей комнаты на большую дорогу». Какая-то дама заявила, что имена собственные, а особенно Линдберг с Чемберленом, не идут в поэзию. Адамович заступился, и на эту тему загорелся спор. Многие в тот вечер говорили сладкие слова о «Пилигримах»; все находили, что это «лучшее», и только Браславский заметил: «Нет. Хорошо, но другие лучше. Вы ведь знаете — тех ваших стихов многие, ну, прямо не переваривают. Я всегда за вас заступался. Я очень люблю ваши стихи. Вы подумайте, ведь вы единственный поэт, который пишет о себе. А это так ценно в поэзии». И он прав, тысячу раз прав… И пусть все, даже Юрий, будут приветствовать мой поворот от субъективной лирики к объективной, все равно — я знаю, что это не мой путь, что я тираню сама себя, мне не надо покидать мою милую «девичью комнату», которую многие так ненавидят. Пусть меня ни один поэт не считает за настоящего поэта, пусть меня ненавидят, я буду писать о том, что мне близко и что меня волнует. А волнует меня не разум, не философия, а сердце.
Вчера была у Юрия. Оба мы долго ждали этот день, и, конечно, знали, чем он кончится. Но — тут я подошла к такой области, о которой писать не умею. Не умею. Слова тут ничего не скажут. Одно только я почувствовала, что после вчерашнего — мир стал шире и радостнее, а нас с Юрием уже почти ничто не разделяет. Стыдно? Нет, нисколько. Один момент было какое-то раздражение. Почему нет? Боится? Бережет меня? Только потом я оценила эту сверхчеловеческую силу любви, которая заставила Юрия в самый последний момент сказать: «нет», когда мы были охвачены одним безумием, одной страстью, когда я шепнула ему: «не бойся», и когда оставался один только момент до того, чтобы стать — по Розанову — Богом. Может быть, Розанов и не прав, но этот момент страсти был прекрасен.
26 июня 1927. Воскресенье
Сегодня мы с Юрием лежали в одной постели.
А дома полный разрыв дипломатических сношений.
29 июня 1927. Среда
Вчера я свалила с плеч большую тяжесть, хлопотала о том, чтобы мне не платить 215 фр<���анков> в госпитале. Сделала все возможное, и опять мир стал чист и безоблачен. Ничто над душой не висит, легко так. Опять я могу остаться наедине с мыслями о Юрии. Боже, какое счастье! Вчера приходила Мария Андреевна, все говорила о своих успехах, и мне стало как-то неприятно. Я не настолько люблю ее, чтобы искренно радоваться ее успехам, и было досадно на себя, что я-то за этот год ровно ничего не сделала. Успокаиваю себя тем, что занята личными делами. В самом деле, для Юрия, для него-то, милого, обещаю, я могу бросить все. А поэзия уже давно отодвинута не только на второй, но и на третий план.
1 июля 1927. Пятница
Сегодня день проходит чуточку необычно. Встала несколько позже, но самое необычное-то началось в госпитале. Сегодня Марсели нет, обычно по пятницам я хожу в другую палату. Но вчера она меня предупредила, что той сестры тоже не будет, чтобы пришла сюда. А ее заместительницу я терпеть не могу. Прихожу. Кровать № 1 у входа огорожена ширмой, лежит, закрытая простыней. Умерла. А лежала там девочка 16-ти лет. Сразу стало как-то очень грустно. Жаль ее. И вспомнилась одна ужасная ночь в госпитале. Теперь жутко не было. Было только жаль ее, такую молодую, и ту женщину, которая несколько дней тому назад стояла у ее кровати и плакала.
Опять страшно прибыла в весе (1 кг 200 г), и это меня напугало и огорчило. Стала замечать, что последние дни плохо себя чувствую. Почему-то вдруг мелькнуло — «туберкулез». И стало жаль уже не себя, а Юрку. Глупо, конечно, но вот и мысли-то сегодня какие-то необычные. Потом эта идиотская сестра на меня накричала, — зачем я вылила свой анализ и не показала ей. «Вы могли ошибиться. Ведь я же должна знать. Я не могу так работать». На что я «хозяйским», несколько резким тоном заметила ей, что я всегда так делаю и, если бы лучше говорила по-французски, сказала бы ей не особенно резко, что это ее, в сущности, совершенно не касается, что ей только нужно мне сделать пикюр. Я помню, что когда я еще лежала, мы с ней из-за чего-то повздорили. Не люблю я ее.
Вылезла на Porte de St. Cloud из метро. Сильный ветер и туман. Но и туман какой-то необычный, не парижский, не то туман, не то дым. Будет страшно, если я напишу «день тяжелых предчувствий». Чего? — не знаю, и это только усиливает тревогу.
Вечером я должна пойти к Юрию. И стало страшно: «что-нибудь помешает». Я — человек суеверный. Если я не в тот вагон метро сяду, я уже жду, что будет что-то не так, как всегда. Что же такое должно произойти? Хорошее или плохое? — не знаю. И я сегодня накапливаю десятки мелких примет, и мне очень тревожно.
Мне стыдно признаваться в таком суеверии, но что поделаешь? Его можно только искусно замаскировать, но от самой себя не спрячешь.
2 июля 1927. Суббота
Вчера опять отдавалась. Не люблю я только этого слова. Совсем не то оно обозначает, что надо. Мы близки, как никогда, и обоим нам было хорошо и радостно. Юрий потом сказал: «В страсти ты бываешь прекрасна. Лицо у тебя такое одухотворенное». И правда: в нашей страсти не было ничего «животного», мы оба были человеки до конца. Потому-то и не было стыдно, а была нежность, радость. Обнимая его, я сказала: «Я хочу, чтобы мы были всегда такими хорошими, а сейчас мы хорошие». И правда, мы были хорошими и светлыми. Момент греха, греховности отсутствовал совершенно. И была человечность. Это было прекрасно.
Все грани стерты. И теперь нас ничто не разъединит. Был какой-то, м<���ожет> б<���ыть>, несколько наивный, но хороший подъем. Я бы сказала, «экстаз». «Давай будем всегда одним единым, будем идти совсем, совсем близко, и все у нас будет общее и радостное, и горе, и грехи общие». И, действительно, верилось, что это возможно, что это так и будет, что и быть иначе не может. Ну, разве такое состояние, такой восторг может быть греховным?
Мамочка, по-моему, о чем-то догадывается. Во всяком случае, на мои скачки в весе (1.200-1.500) она реагирует так: «А ты не видишь тут связи с нервными переживаниями? Закрутилась ты опять. Страшно ты переменилась в Париже — и к худшему!» Милая Мамочка! Разве я могу сказать ей правду? Разве она поверит? Да и я сама несколько месяцев назад не поверила бы в целомудренность и непорочность этого момента. Господи, как хорошо и интересно жить!
Сегодня в госпитале любовалась на Marcelle, смотрела на белую косынку, на ее невысокую грудь и спрашивала себя: почему мне она так нравится? Нет в ней типичной для сестер «доброжелательности», ее даже нельзя назвать ласковой и мягкой, Elle n’est pas douce [80] Она не добрячка (фр.).
, наоборот, она даже немножко резка, но вот эта-то резкость, как следствие последней простоты, именно в ней чарует. А улыбка! Сколько в ней приветливости, сколько веселости, и какая она вся быстрая, ловкая и такая — до конца простая. Я знаю, что я ее люблю, что полюбила я ее с того самого дня, когда я в первый раз — неловкая и чужая — вошла в Salle Potain [81] Зал Потен (отделение госпиталя "Питье" (фр.).
, и с тех пор, как она сказала мне: «Couchez-vous, petite» [82] Ложитесь, милочка (фр.).
. С тех пор я ее люблю и ловлю каждое ее движение и нарочно задерживаюсь в госпитале, чтобы задать ей какой-нибудь пустой вопрос, чтоб просто видеть ее и слышать.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2](/books/612118/irina-knorring-povest-iz-sobstvennoy-zhizni-dnevnik-v-2-h-tomah-tom-2.webp)