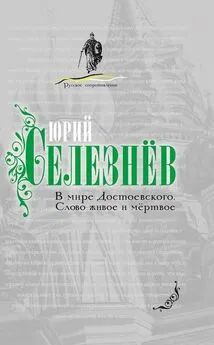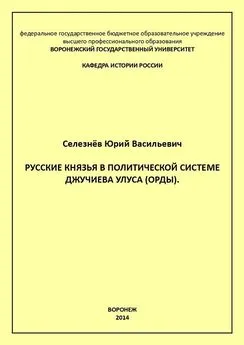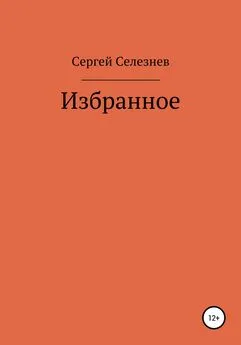Юрий Селезнев - Достоевский
- Название:Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Селезнев - Достоевский краткое содержание
Новая биографическая книга о Ф. М. Достоевском, выходящая в серии «Жизнь замечательных людей», приурочена к 160-летию со дня рождения гениального русского писателя. Прослеживая трудный, полный суровых испытаний жизненный путь Достоевского, автор книги знакомит молодого читателя с многообразием нравственных, социальных, политических проблем, обуревавших создателя «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых».
Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С любопытством вслушивался Достоевский в его мягкую, будто даже добродушно-ворчливую речь книжника, пересыпаемую народной фразой. В узком доверительном кругу этот «Жозеф де Местр» позволял себе высказывать даже и недовольство многими правительственными мерами — чего стоит одна только реформа питейного дела, произведенная «премудрым нашим Витте» (при этом его тонкие, бескровные, почти старческие — хотя он и на 6 лет моложе Достоевского — губы едва уловимо кривились). Не подобает царской казне богатеть за счет порока, болезней и несчастной слабости трудящихся христиан. Но есть и такие глубины, до которых государственная власть и вовсе не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе всех и каждого. Особенно возмущала его политика либерализации, как он считал, общественной жизни, ибо светские свободы ведут не иначе как к брожению умов, расшатыванию устоев, к грядущим катастрофам, но ничем не облегчают участи большинства христиан. Истинная свобода личности, последнее торжество духа не в социальных реформах, а в Евангелии, — мягко поучал он, но при этом в его голосе начинал слышаться и отзвук металла, а глаза еще более испытующе просверливали слушателя сквозь стекла ореховых очков. «Хочется верить не в новые законы, а в новых людей, — обращался он как бы лично к Достоевскому, а вместе с тем как бы и не лично к нему. — Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утверждающаяся в умах даже и лучших у нас людей идея, будто всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной».
Достоевский вслушивался в эти речи — многое в них было как будто созвучно его собственным настроениям, но ему и претило доктринерское, предписательное христианство Победоносцева.
Достоевский всматривался в желтый пергамент гладко выбритого, почти безжизненного лица собеседника — воспитателя наследника престола, человека, который во многом может предопределить характер правления на ближайшее будущее, — смотрел на его жиденькие, прилизанные волосики, открывающие гладкий старческий в прожилках череп с топорщащимися ушами: внешне Константин Петрович не производил впечатления человека симпатичного, но в этом сухом, аскетически иссохшем теле чувствовался железный дух, в его небольшом черепе шла неутомимая работа мысли. На что будут направлены этот дух, эта мысль, вся фанатическая воля этого, словно явившегося из средневековых времен человека — от этого, казалось Достоевскому, теперь многое зависело и решалось в судьбах России. Беседы с ним требовали предельной собранности, изнуряли, но в них оттачивалась, обретала формы, прояснялась и мысль самого Достоевского — этот человек одновременно и отталкивал, порой ужасал его, но и притягивал его к себе неотвратимо и как художника, и как мыслителя, и как деятеля. Пожалуй, живи Константин Петрович в средневековой Испании — из него вполне мог бы получиться какой-нибудь инквизитор, сжигающий еретиков во имя Христа. А вот сам Христос-то — отчего никто не хочет задуматься над этим, — сам Христос сжег бы еретиков? Вот то-то и оно... Да явись сейчас сюда хотя бы и Он сам — не станут ли и Его учить, чт о есть истинное христианство?.. Но в открытые споры Федор Михайлович вступал редко, все больше безмолвствовал. Чувствовал: здесь нужен иной спор, и он еще будет.
Работа над «Бесами» затягивалась, роман все более обретал черты всемирной трагедии человеческой мысли и духа. Но многое еще предстояло угадать в законах этой трагедии.
Недавно он узнал, что поразивший его анонимный отклик прошлого года на «Идиота» принадлежит перу Салтыкова-Щедрина. Подивился немало: хоть и не преминул ругнуть его едкий, проницательный служитель «пламенной сатиры» в некрасовских «Отечественных записках» за нападки на «нигилистов» — к этому-то не привыкать, но зато и кто другой еще сказал бы ныне о нем, Достоевском, такое: «По глубине замысла, по широте задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества...» Автор «Идиота» ставит перед человеком и обществом такие нравственные задачи и цели, перед которыми «бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п.», задача, которую решает Достоевский, такова, что в сравнении с ней «даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями...» Вот тебе и антагонист...
Достоевский чувствовал, что и в новом романе от памфлетной злобы дня, от вопросов, которые волнуют современное ему общество, он все более переходит за черту, в область — как выразился, и прекрасно выразился, Михаил Евграфович — «предведений и предчувствий». Да, в «Бесах» ему хотелось высказаться до конца, и не памфлетно, но так, как умели же высказываться в древних Откровениях... Так, чтобы не навязывать ответ, но чтобы он как бы сам родился в сознании читателей. Как это говорится и в народе: «Сказанное слово — серебряное, несказанное — золотое». Не оттого ли у Пушкина «народ безмолвствует»? Только бы достало таланту воплотить такое не сказанное еще народом, но уже предчувствуемое, предвидимое им, писателем, народное слово. «Бесам», казалось теперь, не только конца не предвидится, но, может быть, сейчас только они и зачинаются. А тут еще столько новых хлопот, правда, приятных, — решили снять дачу и где-нибудь подальше от Петербурга, чтоб хотя на лето укрыться от кредиторов да от городской суеты. Михаил Иванович Владиславлев — муж одной из племянниц Достоевского (философ-«прогрессист» и страшный либерал!) — присоветовал Старую Руссу, что в Новгородской губернии. Действительно, далековато, но место чудное: Федор Михайлович съездил, поглядел, размечтался и уж договорился снять домик на лето у местного священника Ивана Ивановича Румянцева. Решили отправиться туда всем семейством в мае нынешнего, 72-го года.
А на днях Достоевский получил письмо от уже становящегося знаменитым собирателя русской живописи Павла Михайловича Третьякова — просит попозировать художнику Перову. Времени, конечно, в обрез, да и видеть свое изображение на выставках или тем более увековеченным для памяти потомков? — этим его не соблазнишь. Но и отказать такому человеку, как Павел Михайлович, как-то совестно: удивительный человек, великий подвижник, патриот. На людях такой вот закваски, кажется, и стояла всегда русская земля. И то: вроде бы чего еще — купец, хоть и не миллионщик, но не беден — ну и живи себе в свое пузо, наращивай тыщи, пользуйся радостями жизни, пока жив и деньги есть. На культуру потянуло? Искусства захотелось? — ну так и потребляй чего душа желает. Нет, тут не меценатство на уме — решил собрать национальную картинную галерею не для личного услаждения — для Отечества. И художники поверили в него: отдавать ему лучшие свои полотна за честь почитают. Да что там — многие просто погибли бы в безденежье и безвестности, не будь Павла Михайловича. Теперь вот задумал создать целую портретную галерею лучших людей России, самых талантливых художников уговаривает, подталкивает, убеждает. Значит, и его, Достоевского, ценит, коли просит согласиться на портрет 43 43 Конечно, Ф. М. Достоевский догадывался, да и немало тому получал свидетельства уже и при жизни, что пользуется у многих своих великих современников любовью и почтением. И все-таки нетрудно представить, сколько бы душевных сил прибавилось у него, знай он хоть чуть более о том, как воспринимаются плоды его труда. «В жизни нашей, то есть моей и жены, — писал, например, тот же П. М. Третьяков И. Н. Крамскому в ответ на его восторженный отзыв о писателе, — Достоевский имел важное значение. Я лично так благоговейно чтил его, так поклонялся ему, что даже из-за этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел в 1872 году. Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно Вы его назвали, это был пророк, это был всему доброму учитель, это была наша общественная совесть...»
. Да и сам Перов любезен душе Федора Михайловича — «Похороны крестьянина», явно вдохновленные некрасовской поэмой «Мороз, Красный нос», «Приезд гувернантки», удивительные его «Птицеловы», а какие крестьянские характеры! Один только «Странник» его как много говорит сердцу. Ну а портретист — бесподобный: Островский у него — на века, таким и будет жить в памяти людской.
Интервал:
Закладка: